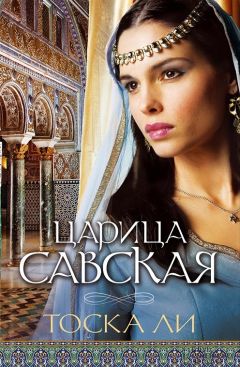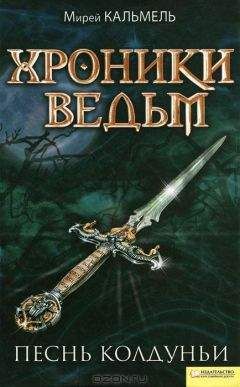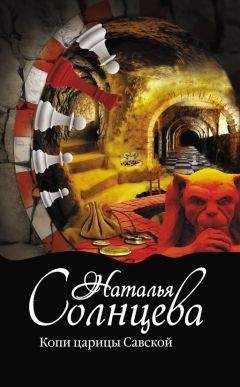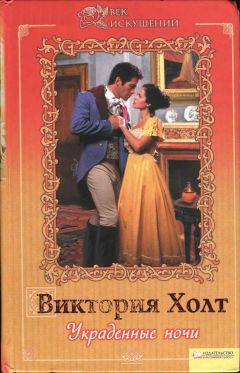Наследница царицы Савской - Эдхилл Индия
– Знаю, – сказала я, – прости.
Потом я взяла поводья, и мы медленно вернулись на большую дорогу, ведущую к Иерусалиму.
Долгие годы правления научили Соломона не поддаваться гневу и боли. Как будто дочь и не приезжала, он продолжал оценивать лошадей, которых к нему выводили. Лишь вернувшись в Иерусалим, он позволил себе начать думать о том, что произошло, и при воспоминании о своих словах его захлестнул стыд. «Я запрещаю тебе». Он, так гордившийся тем, что справедливо и с уважением относится ко всем мужчинам и женщинам, говорил с родной дочерью так, словно… «Словно она моя собственность, словно она…»
Словно она действительно была драгоценностью, как он говорил о ней, сокровищем, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению. Неужели он и вправду относился к ней так?
«Нет. Нет, конечно, я к ней отношусь не так. И все же она моя дочь… Нет, не буду продолжать эту мысль. Ваалит еще ребенок, она сама не знает, чего просит». Да, именно: ребенок, ослепленный величием чужеземной царицы, которая польстила ей. Но, сколько Соломон ни старался обуздать свои мысли, у него не получалось. Яркое безжалостное солнце не могло испепелить стоявшее перед глазами дерзкое лицо дочери, ее отчаянный взгляд.
И шум городских улиц не мог изгнать эхо его собственных слов, произнесенных жестоким, словно чужим голосом: «Ты моя дочь, и ты подчинишься».
«Как я мог сказать ей такое? Словно бы… Словно бы я владел ее душой…»
Словно его дочь была одним из достояний царской казны, достаточно ценным, но не обладающим своей волей. Вещью, которую можно по мановению руки отправить под замок.
Закон говорил, что все именно так и есть. В печали и гневе он заговорил как любой отец, отчитывающий непокорную дочь. Дети принадлежали мужчине. Их держали при себе, чтобы было на кого опереться в далеком туманном будущем. Отец мог выбрать для дочери какую угодно судьбу. Так гласил Закон.
«Так ты теперь будешь цепляться за холодный Закон?» – спросил себя царь. Разве он сам не учил Ваалит жить собственным умом и считать себя равной любому из своих братьев? «Да, Соломон, это ты в безумии своем наделил ее пытливым умом и храбрым сердцем». А теперь, когда она захотела идти к собственному будущему, которым он не мог управлять, он отнял свои дары.
«Решая, как устроить будущее дочери, следовало просто открыть для нее это будущее. А теперь ты осмеливаешься призывать Закон?»
Разумные слова, чтобы опровергнуть это холодное обвинение, не приходили. Он со вздохом поднялся на парапет и оперся руками о нагретые солнцем камни. Внизу раскинулся Город Давида, озаренный полуденным летним солнцем. На крышах работали женщины – там развешивали белье. Служанки подходили к бочкам для сбора дождевой воды. «С такой высоты мой отец увидел, как моя мать купается на крыше, и подумал, что она прекрасна…»
А когда Соломон поднял глаза, его взгляд заполонил сияющий золотом храм.
«Город Давида. Храм Соломона». Он отвел взгляд от слепящего блеска храма и снова посмотрел на жаркий суетливый город. Город царя Давида. «Долго ли еще они будут называть Иерусалим этим ласковым именем? И будут ли говорить о моем храме с такой же любовью и гордостью, как об отцовском городе? Или меня забудут и мои пороки и добродетели исчезнут, как пыль, развеянная по ветру?»
Бывало ли его отцу Давиду так тяжело на душе? Или матери? Соломон поймал себя на том, что улыбается, вспоминая ласковый характер Вирсавии, ее нежелание слышать злые слова и видеть подлые поступки. Нет, Вирсавия не знала страха и отчаяния. «Ее всегда озаряло солнце».
А его вторая мать, царица Мелхола? «О, это совсем другая история». Царица Мелхола всегда привечала его, сына своего сердца, но он чувствовал, что за ее взглядом скрывается глубокий холодный колодец. Соломону не приходилось видеть, чтобы она ласково смотрела на его отца; нет, когда она смотрела на царя Давида, в ее глазах читалось холодное змеиное терпение.
Сердце у нее было не каменное. Никто не знал этого лучше, чем он. Но ее ледяной взгляд светился теплом лишь для него и его матери, а для Давида, героя, ради которого она бросила вызов своему отцу Саулу, которого она ждала десять лет, когда ее выдали замуж за другого, ради которого она пожертвовала собственным будущим, – для Давида ее глаза оставались пустыми.
Иногда ему казалось, что это лишь его глупые выдумки. «Мальчишки, а уж тем более царевичи, очень ревнивы и думают лишь о себе. Мне хотелось, чтобы она любила меня больше всех, в этом все дело!» Да, наверное. Ведь все песни утверждали, что царица Мелхола любила царя Давида превыше себя и собственной чести.
Но в памяти звучало предостережение самой царицы Мелхолы: «Песни очень красивы и приятны для слуха, но никогда не путай песню с правдой». В отличие от его матери Вирсавии, Мелхола внимательно прислушивалась к каждому слову и видела каждое действие ясно, как в солнечный полдень. Этому она научила и его: «Нужно знать, где истина, Соломон, даже если сам идешь другим путем. Нужно знать, что такое добро, даже если творишь зло».
«Но ведь лучше идти путем истины и творить добро?» – спросил он тогда, и царица Мелхола улыбнулась. «Да, душа моя, лучше идти путем истины и творить добро, но царю это не всегда подвластно. Иногда царь должен делать то, что правильно».
Он много лет не мог разгадать эту загадку. Соломон снова улыбнулся, на этот раз собственной глупости.
«Что ж, я знаю, что такое истина и добро. Что же мне делать с этим великим бесценным знанием? И как мне узнать, что правильно?»
«Соломон Премудрый», – рассмеялся он, передразнивая себя. Соломон Премудрый, который знает и умеет все. Не умеет он лишь срывать плоды счастья с колючих веток. «А что делает человека счастливым? Любовь?»
Непрошеные, пронеслись перед глазами его жены. Нефрет и Наама, Меласадна и Двора. «Столько жен… Любит ли меня хоть одна из них?»
«А ты хоть раз их спрашивал об этом, Соломон?» В этом шепоте слышалась насмешка. Этот упрекавший его голос принадлежал Билкис.
Что ж, теперь он любил. Любовь благоухала жгучими пряностями. Билкис, царица Савская, зрелая, мудрая и теплая. «Моя последняя любовь».
Совсем не похожая на первую. «Моя жемчужина, моя роза, песнь во плоти. Моя Ависага».
Его страсть к Ависаге была пылкой и требовательной. Так любят мужчины в молодости. Обуздывая свое желание, уступая возлюбленную престарелому отцу, он провел много бессонных ночей и тревожных дней. Те решения нелегко ему дались.
Но царь Давид лежал при смерти, дряхлый, продрогший до костей старик, и Соломон склонился перед его нуждами и волей приемной матери. «Нет, скажи правду хотя бы себе. Царица Мелхола согласилась с этим планом и воплотила его вместе с собственными хитростями, чтобы добыть мне трон. Но придумал все это я».
Соломон невольно вспомнил, с какими словами обратился к царице Мелхоле в поисках ее одобрения: «Сначала я подумал, что моему отцу нужна помощь и утешение в старости. А потом мне пришло в голову, что девушка, выбранная, чтобы ухаживать за ним, может передавать нам его разговоры с другими». Было и кое-что еще, но эти слова Мелхола произнесла за него: «Если потом ты женишься на девушке, служившей твоему отцу, это укрепит твое положение наследника».
Когда он открыл царице Мелхоле свои мысли, она сказала, что он рассудил здраво. Соглядатайка в спальне Давида, а затем царица при дворе Соломона… Это казалось таким благоразумным и простым.
Но тогда он еще не начал искать ту девушку, которой предстояло делить ложе с двумя царями.
Тогда он еще не нашел ее.
Свою любовь.
А вместе с любовью и боль. Ведь Ависага выполнила его желание. Она следила за его отцом, как тень, передавая все ему. «Прекрасная девица, достойная того, чтобы ухаживать за отцом, спать с ним, согревая его промерзшие кости. Царская девица, которая своими нежными молодыми руками передаст власть от старого царя новому…»
Ависага делала все, о чем просили Соломон и царица Мелхола, и даже больше. И никогда она ни единым движением ресниц не выдала и не позволила догадаться, что происходило между ней и Давидом. Соломон по сей день не знал, лежал ли его отец с Ависагой, как мужчина с женщиной.