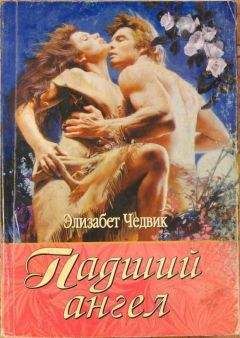Летняя королева - Чедвик Элизабет
– Она согласится, – тихо сказал он, скорее себе, чем отцу, а мысли его были заняты огромным богатством Аквитании и тем, что открывалось перед ним, когда он станет герцогом-консортом. За несколько часов его нежелание превратилось в нетерпение.
Жоффруа налил вино в хрустальные кубки и поднес один к оконной нише.
– За успех, – сказал он.
Генрих взял кубок и отсалютовал отцу.
– За династию, – ответил он.
Алиенора сидела в постели, подтянув колени под покрывалом, чтобы получился столик, на который она положила запечатанное письмо, прибывшее из Пуатье с наступлением сумерек. Она накручивала на указательный палец локон распущенных волос. При всей ее репутации искусительницы единственным мужчиной, который когда-либо видел ее распущенные волосы в спальне, был Людовик. Зажав прядь между пальцами, она представила себе взгляд молодого анжуйца, если бы она решила принять его предложение выйти замуж. Это было интересно и не лишено смысла, но ей нужно было тщательно обдумать этот вопрос, потому что на этот раз выбор был за ней, даже если этот выбор был ограничен ее положением.
Отпустив прядку волос, она разгладила письмо на поднятых коленях и закусила губу. Ее сердце стремилось в Тайбур к человеку, который продиктовал это письмо, но политическая необходимость и забота о благосостоянии Аквитании делали их связь невозможной. Тринадцатилетней девочкой она верила, что все возможно, но время умудрило ее и умерило безрассудство. Отец и его советники были правы. Если бы она вышла замуж за Жоффруа, Аквитания погрузилась бы в хаос, поскольку вассалы боролись бы друг с другом за права на власть.
В Святой земле она мечтала аннулировать брак с Людовиком и делать все, что ей заблагорассудится, но даже это было не более чем мечтой. Что бы ни было у нее с Жоффруа, все должно было оставаться в тайне. Ее священным долгом было защитить Аквитанию и приумножить ее блеск. Поможет ли ей достичь цели брак с Генрихом, герцогом Нормандским, – это уже другой вопрос. Шахматная партия ничего не рассказала ей о нем, кроме того, что он был умен и стремился угодить, не будучи при этом угодливым. В некоторых отношениях он напоминал ей оруженосцев, которых она воспитала для хорошей службы в своем доме. Если она сможет воспитать и его, тогда все будет хорошо.
Она задумчиво вздохнула и сломала печать на письме Жоффруа. Отблеск масляной лампы освещал чернила, но приглушенный свет делал слова нечеткими. По сути, это был отчет о делах в Аквитании. Французские кастеляны Людовика готовились покинуть занятые ими крепости, а страну готовили к окончательной оценке. Однако письмо было отчасти зашифровано, и, как всегда, между строк она читала другое, причем соответствующие буквы делались то чуть больше, то чуть меньше. Жоффруа писал, что с нетерпением ждет ее возвращения. Он был слаб из-за болезни, которую подхватил в Святой земле, но уже выздоравливал, и одного взгляда на нее было бы достаточно, чтобы восстановить его здоровье.
– Храни тебя Господь, любовь моя, – прошептала она и поцеловала пергамент, прежде чем убрать его в сундук. – Скоро мы будем вместе.
40
Анжу, 4 сентября 1151 года
Раннее сентябрьское солнце било жестким желтым светом над кавалькадой графа Анжуйского и недавно получившего титул молодого герцога Нормандского. Дорога была пыльной под бесцветным небом, лошади шли с опущенными головами, пот покрывал их шкуры. Знамена висели на древках, не шелохнувшись от дуновения ветерка. Рыцари ехали без доспехов, переложив свои кольчуги и туники с толстыми подкладками в сумки вьючных животных. Вместо них из вьюков появились широкополые соломенные шляпы, а мужчины вытирали лица и затылки тряпками, смоченными в воде.
Рыжеволосому и светлокожему Генриху приходилось несладко, но страдания он переносил стоически. Пребывание в Париже оказалось весьма удовлетворительным. В обмен на полоску земли и несколько минут покорности Людовик Французский официально признал его герцогом Нормандии. Король с отцом заключили перемирие, благодаря которому он мог продолжать воплощать в жизнь свои планы по вторжению в Англию, и даже если ему придется заключить брак с герцогиней Аквитанской, она, по крайней мере, была пригодна для постели и способна принести ему большое богатство и престиж. При желании он мог иметь любовниц на стороне. Когда он думал о землях, которые могли бы принадлежать ему, нанизанных на ожерелье, как драгоценные камни, на его губах расцветала улыбка.
Прошлой ночью они остановились в Ле-Мане; сегодня они будут ночевать в Ле-Люде, а затем поедут в Анже, чтобы встретиться со своими баронами и домочадцами.
– Господи, какая жара, – сказал его отец. – У меня кости горят под кожей.
Генрих взглянул на него. Некоторое время они ехали молча, каждый был погружен в свои мысли. Жоффруа раскраснелся, его глаза блестели.
– В миле отсюда есть хорошее место для купания, – предложил Генрих. – Мы могли бы сделать привал, чтобы поесть и охладиться.
Жоффруа кивнул.
– Я не голоден, – сказал он, – но сойти ненадолго с седла было бы неплохо.
Генрих проголодался. Даже изнуряющая жара не подавила его аппетит, а мысль о хлебе и сыре не покидала его на протяжении последних нескольких миль.
Они вышли на песчаный берег, где река плескалась в сине-зеленой ложбине. В тени ивы нашлось место для пикника. Генрих разделся до брэ [31] и с радостным криком побежал по теплому песку в воду. Его лицо и руки были загорелыми, красно-коричневыми после лета, проведенного в походах на свежем воздухе, но все остальное тело осталось молочно-белым. Вода встретила его восхитительной прохладой, когда он погрузился в нее по бедра и затем бросился на спину, чтобы плыть, раскинув руки и ноги. К нему присоединился отец, тоже раздетый до белья. Генрих захотел поиграть с ним и окунуть в воду, но Жоффруа отбился и прорычал, что хочет охладиться и требует, чтобы его оставили в покое.
Пожав плечами, Генрих выполнил просьбу и пошел топить Гамелина.
В конце концов Жоффруа вылез из реки, стуча зубами, и отказался от еды, которую оруженосец подал ему в сложенной салфетке.
– Боже правый, – сказал он. – Это мне? Воняет так, будто ты вез это в своих штанах.
Кто-то пошутил о большой сосиске, что вызвало бурный смех, но Жоффруа промолчал. Вместо этого он отправился горбиться в одеяле в одиночестве, с кубком вина в руке, из которого почти не пил.
– Что с ним? – спросил Гамелин.
Генрих покачал головой:
– Наверное, перегрелся на солнце. Последние несколько дней его беспокоила нога, а ты знаешь, как он дуется, когда у него что-то болит. Оставь его в покое, и скоро он поправится.
Освеженный и отдохнувший, отряд оделся и двинулся в путь. Жоффруа с трудом сел на лошадь, его все еще била дрожь. Через некоторое время он опустил поводья, и его вырвало.
– Сир?
Генрих в замешательстве отпрянул. Лицо его отца все еще было раскрасневшимся, а глаза остекленели, будто поцарапанные голубые камни.
– Не смотри на меня так, – огрызнулся Жоффруа. – Ничего страшного. Продолжайте, иначе мы не доберемся до Ле-Люда до наступления ночи.
Генрих обменялся взглядом с Гамелином, но ничего не сказал, лишь приказал кавалькаде ускорить шаг.
Они добрались до Ле-Люда к закату, небо на западе было цвета увядшей розы. Солдаты открыли ворота, чтобы пропустить их, и они рысью въехали во двор. Жоффруа на мгновение выпрямился на своем жеребце, собираясь с силами. За время путешествия он болел еще дважды, и все его тело дрожало. Когда он все-таки решился сойти с коня, его колени подкосились, и только Генрих с Гамелином спасли его от падения, вовремя подхватив. Отец горел в лихорадке, и Генриха охватило дурное предчувствие.
В течение следующих трех дней состояние Жоффруа ухудшалось. Его легкие застудились, а тело покрылось сильной красной сыпью: немое доказательство того, что он подхватил заразу в Париже. Лекарь покачал головой, и капеллан принял исповедь графа Анжуйского. Не в силах поверить в происходящее, Генрих метался по комнате больного как загнанный лев. Отец был неизменным спутником его жизни, всегда рядом, всегда поддерживал, даже когда Генрих уже не нуждался в опоре. Они часто спорили, и между ними постоянно возникали трения мужского соперничества, но тем не менее их связь была крепкой и дружеской. Они были связаны: отец с сыном, сын с отцом и мужчина с мужчиной. Генрих хотел перестать зависеть от отца, но в то же время не хотел отпускать его.