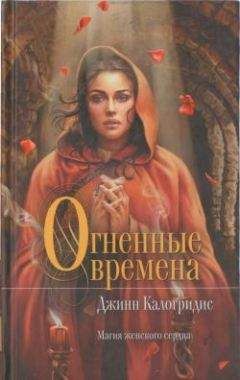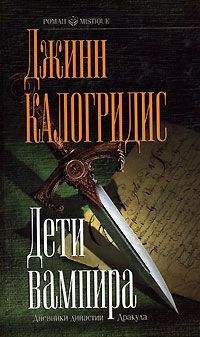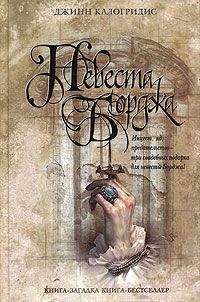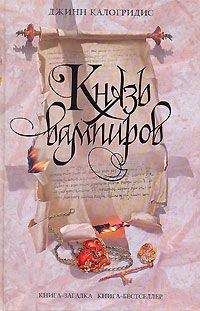Огненные времена - Калогридис Джинн
При этом последние слова он обращал к аббатисе.
Напряженный от гнева голос отца Шарля вернул Мишеля к действительности.
– Они заплатят за преступление, матушка. Мы же пока, – тон священника стал несколько небрежным, – не будем терять времени. Против вас был составлен предварительный список обвинений.
Не оглядываясь на своего помощника, он протянул ему раскрытую ладонь.
Мишель очнулся, открыл сумку и развернул толстый свиток из нескольких листов пергамента. Выбрав нужный лист, он передал его отцу Шарлю. Хотя последний давно уже полагался при чтении на глаза Мишеля, он знал этот список наизусть: убийство невинных младенцев, общение с дьяволом, обучение ведьм, колдовство против отдельных лиц в Каркассоне, не говоря о самом тяжелом обвинении – колдовстве против его святейшества Папы Иннокентия…
Кроме этого последнего обвинения и имени обвиняемой, на всех пергаментах в сумке Мишеля значилось то же самое.
Шарль продолжал допрос:
– Матушка, я спрашиваю вас: признаете ли вы себя виновной в предъявленных вам обвинениях?
Внезапно здоровый глаз аббатисы затуманился, и одна слезинка скатилась по щеке.
Отец Шарль с мрачным видом показал ей пергамент, а Мишель достал чернильницу и перо.
– Документ уже готов, и вам остается лишь подписать его, – сказал священник. – Это список обвинений, который я вам зачитал.
Передавая Шарлю перо, Мишель увидел, что аббатиса смотрит не на пергамент, а на него самого. Потом она перевела взгляд на отца Шарля, и в это мгновение Мишелю удивительным и невыразимым словами образом открылось, что она плачет не от боли, причиненной ей палачами, не от позора тюрьмы и не от страха мучительной смерти.
Она плакала из жалости к ним, ее инквизиторам. Из глубочайшего сострадания к ним. И он почувствовал, как болезненно сжалось в ответ его сердце.
Она снова взглянула на Мишеля. Ее щеки сверкали слезами, смешанными с кровью, но выражение лица было спокойное. Какой невинной она выглядела – маленькая и израненная, на рваной грязно-белой подстилке. Короткие волосы и большие глаза делали ее похожей на подростка.
Никто бы не смог увидеть ее такой и не разглядеть в ней святую, не увидеть за ней Бога. Несмотря на ужасающие раны, лицо ее и открытый глаз были полны святости. Возможно, именно таким, подумал Мишель, являлся Иисус своим мучителям накануне распятия.
Он хотел повернуться к отцу Шарлю, узнать, что чувствует его наставник, но внезапно голова у него закружилась и он почувствовал, что теряет сознание…
Он не был больше собой, монахом Мишелем. Он был другим человеком, чужим, незнакомым себе самому. Он лежал навзничь и смотрел в залитое солнцем небо. Небо было таким голубым, таким спокойным, безразличным и холодным – это вместилище криков людей, которых побивают камнями, – таким тихим, спокойным было оно теперь. Но там, в небесной синеве, неслись какие-то темные вихри.
«Что это, – подумал он, – стервятники? Или приближающаяся смерть?»
Ему было все равно: он был слишком слаб, слишком спокоен, слишком опустошен.
Потом небо и стервятники исчезли, и вместо них возникло человеческое лицо – лицо женщины с большими черными глазами, темными бровями и ресницами, оливковой, загорелой кожей. Она склонилась к нему, улыбаясь. Он попытался улыбнуться в ответ, но не смог: слишком много крови вокруг – крови на металле, крови на земле, крови на языке… Но все это не имело никакого значения, ибо он видел ее. Наконец…
И несмотря на слабость, он преисполнился огромной любовью и непереносимым чувственным влечением, которого перед лицом неизбежной смерти совсем не стыдился. Такая страсть казалась святой, неотделимой от власти, изливавшейся из нее в него.
Ее голос, низкий и красивый, – голос, который он знал давным-давно, голос, который он знал всегда, но не помнил: «Бог, которого ты ищешь, – здесь. Понимаешь? Твоя жизнь здесь…»
Эти слова и идущее от них тепло охватили его таким чувством свободы, такой глубокой радостью и освобождением, что он испустил дух.
Мишель вернулся к действительности. Он был поражен тем, что произошло. Он словно видел сон, но при этом не спал, ибо он только что передал перо отцу Шарлю, словно ничего не случилось. Нет, скорее это был не сон, а последнее воспоминание умирающего – какого-то совершенно незнакомого ему человека. Он словно окунулся в это воспоминание.
Это было видение, ниспосланное ему Богом, но его значение ускользнуло от него. В то же время элемент похоти в этом видении смутил его, и он решил, что тому виной его собственная греховная природа.
Рука Мишеля инстинктивно потянулась к кресту, спрятанному у него на груди. Отец Шарль испытующе посмотрел на него и протянул перо и пергамент неподвижно лежавшей женщине.
Слезы мгновенно иссякли, и аббатиса покачала головой:
– Нет.
Удивительно, но Шарль не стал настаивать. Он опустил руки и вернул оба отвергнутых предмета Мишелю, который сунул их в сумку и вытащил восковую дощечку и палочку, использовавшиеся для записи дополнительных имен, обвинений и дополнений к признаниям.
Палочкой по воску писец написал следующее:
«В год 1357, в 22 день октября, мать Мария-Франсуаза, настоятельница францисканского монастыря в Каркассоне, официально предстала перед судом доминиканского священника отца Шарля Донжона из Авиньона и отказалась признаться в преступлениях, в которых была обвинена».
Палочка повисла в воздухе: писец ждал, что отец Шарль спросит, желает ли аббатиса признаться в других преступлениях или сделать заявление.
К изумлению Мишеля, отец Шарль сказал монахине:
– Совершенно очевидно, что вы не испытываете желания сотрудничать со следствием.
С этими словами он встал и направился к выходу. Сбитый с толку Мишель поспешно собрал свои письменные принадлежности и хотел последовать за ним.
– Но я сделаю признание, – сказала вдруг аббатиса с внезапной силой. – Только это не будет подпись под вашим документом.
Шарль резко развернулся, махнув полой темной сутаны, и посмотрел на нее. Он произнес всего два слова, но Мишель услышал в его голосе нотки разочарования:
– Так вы…
– Признаюсь, – подтвердила она, но ни в ее голосе, ни во взгляде не было ни следа раскаяния или сожаления. – Своими собственными словами и только ему.
Она показала на Мишеля.
Густые, темные брови священника резко вскинулись домиком; губы стали тонкими и побледнели. Несколько секунд он взирал на аббатису испепеляющим взором и наконец сказал:
– Неужели я должен говорить вам то, что вы и без того знаете? Что мой помощник еще не достиг сана священника и официально не может принимать ваши признания? И что я никогда не позволю ему остаться с вами наедине?
– Неужели я должна говорить вам то, что вы и без того знаете? – возразила она с совершенным бесстрашием и непочтительностью. – Что вам приказано сделать заключение о том, что я – вероотступница, и приговорить меня к смерти независимо от того, что я скажу? – На секунду она остановилась и взглядом показала на Мишеля: – Он не боится услышать правду и записать ее.
С мертвенно-бледным лицом, Шарль тяжело повернулся к Мишелю.
– Ей уже ничем не поможешь. Позови тюремщика, брат.
– Но, святой отец…
– Делай, как я сказал.
Все годы монашеского послушания и преданности отцу Шарлю потребовались Мишелю для того, чтобы подчиниться. Он выглянул в маленькое зарешеченное окошко и кликнул тюремщика – как оказалось, более громко, чем было необходимо, ибо тюремщик все это время ждал прямо за дверью. И его веселость, и та поспешность, с которой он отпер дверь, нимало не смогли скрыть смущение от того, что его застали в тот момент, когда он шпионил.
В течение всего трудного дня – а точнее, еще трех абсолютно безрезультатных допросов – подавленность отца Шарля лишь возрастала, и когда инквизиторы наконец покинули тюрьму и вышли на свежий воздух, брови его были нахмурены, а поступь – медлительна и тяжела. Вопреки своему обыкновению он не обсуждал происшедшее за день, а хранил полное молчание.