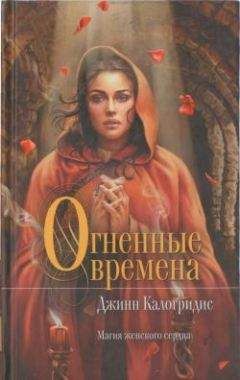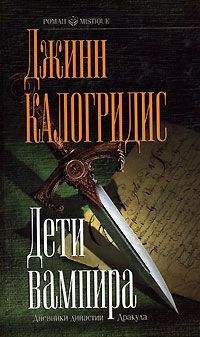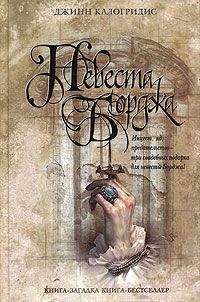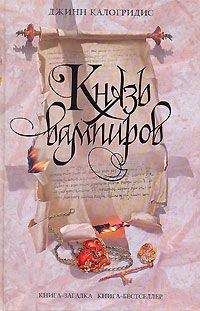Огненные времена - Калогридис Джинн
Английский боевой топор с запекшейся кровью на черном железном лезвии. А солдат, занесший его за плечо на этот раз для того, чтобы размозжить мне череп, был белокурым и апатичным наемником в помятом шлеме, с потрепанным кожаным щитом.
Я упала на колени.
И вдруг раздался звон металла о металл: то меч ударил по топору, и в небо брызнуло целое созвездие голубовато-золотистых искр – вечное великолепие, жарко-белое сияние.
Человек, державший в руках меч, стоял ко мне спиной: французский рыцарь, на запачканном плаще которого был вышит сокол над тремя розами.
«Эдуар», – подумала я.
Но этот человек был выше ростом и шире в плечах.
И в тот же самый миг, когда это имя всплыло в моем сознании, я поняла, что ошиблась. Теперь я знала, кого вижу перед собой. И, увидев его во плоти, вскрикнула.
Мой крик отвлек его как раз в тот момент, когда он снова взмахнул мечом навстречу топору и два металлических острия встретились с такой силой, что голубовато-золотистые искры снова полетели в воздух. Он повернул голову через плечо, пытаясь уловить беглым взглядом, не угрожает ли кто сзади, но это движение задержало его, и враг нанес ему удар, оставшийся без ответа. Английский солдат занес свой тяжелый топор над его правым плечом, а потом, перенеся на него вес всего тела, начал распрямлять руки.
И в этот самый миг за его спиной верхом на лошади появился Эдуар и пронзил его сверху вниз копьем. Острие копья вышло наружу из живота англичанина, окрасившись фиолетово-коричневой кровью.
Англичанин упал вперед, но его вес лишь добавил силы тяжелому топору, упавшему безжалостно на моего юного паладина. Я не могла видеть, как именно это произошло, но слышала скрежет лезвия о металл доспехов, а затем более низкий, приглушенный звук, означавший удар по плоти и кости.
Мой возлюбленный выронил меч и, шатаясь, шагнул назад, руками цепляясь за воздух. Потом, гремя доспехами, упал навзничь на влажную землю. А на его груди лежал англичанин.
Эдуар соскочил с коня и откинул прочь труп англичанина.
Глубоко в груди моего возлюбленного, почти по самую рукоятку, торчал топор.
Эдуар нагнулся и, молча, обливаясь слезами, со всей силой потянул за ручку топора. Лезвие вышло наружу с сильным хлюпающим звуком. Хлынула кровь. Эдуар отстегнул и снял нагрудный доспех с опасно острыми краями, а потом встал сбоку и, опустившись на колени, замер в ожидании.
Было не время потакать своим чувствам. Наступил момент, ради которого я и пришла сюда. Забыв о своем горе, я сняла с головы своего возлюбленного тяжелый шлем и увидела его лицо. Глаза его были распахнуты и смотрели прямо в небо. Я приблизила свое лицо к нему, заслонив от него освещенное ярким солнцем небо. Какое-то мгновение его глаза не воспринимали меня, ибо пелена смерти уже медленно туманила его взор. Но с последним предсмертным вздохом они сфокусировались и посмотрели прямо на меня.
Мои глаза тут же наполнились слезами, но это были не слезы печали, а слезы любви и узнавания.
И он увидел меня и узнал.
Одного этого было достаточно для того, чтобы прогнать любой мой страх, любое сомнение. Все еще стоя на коленях, я прижала ладони к его ране. Сильно, потому что рана была глубока и широка. Она разверзлась, и на мгновение мои руки проскользнули в его грудь, мимо расколотой грудной клетки и острых торчащих ребер.
Я касалась его сердца.
Его еще бьющегося сердца.
И тут же у меня перед глазами всплыл образ колдуна и крысенка. И когда я держала сердце своего возлюбленного в руках, оно несколько раз медленно содрогнулось – раз, другой, третий… И остановилось.
Он умер, мой возлюбленный.
Люк де ля Роза умер.
Какое-то мгновение милость богини еще была со мной, а потом удар нанес набравшийся сил враг. На нас налетела последняя атака английской конницы. Меня сбили с ног, потом отбросили куда-то в сторону. Я кричала, но не потому, что десятки копыт ломали мне ноги. Я кричала из-за разлуки с любимым, с телом его. Я подняла измазанные кровью руки к сокрытому войной небу, но не увидела, что случилось с моим возлюбленным.
Я кричала, и копыта снова неслись по мне, а потом холодные металлические руки подхватили меня, подняли, кинули на лошадь и повезли прочь.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
МИШЕЛЬ
КАРКАССОН, 1357 ГОД
XVII
Глядя на Сибилль, Мишель видел, что ее взор и мысли медленно возвращаются к настоящему из полного ужасов и страдания прошлого. Сначала ее взгляд был направлен куда-то за него, но постепенно смягчился и включил в себя и его самого, и все, что ее окружало. Мгновение она взволнованно смотрела на него, а потом закрыла лицо руками и тихо, горько заплакала.
В смятении Мишель наклонился к ней и пробормотал:
– Пожалуйста, матушка, не плачьте. Не плачьте…
Но она была в полном отчаянии. Непроизвольно коснулся он ее, пытаясь успокоить, и тут же отдернул руку – будто искра вспыхнула меж ними.
И когда она взглянула на него, ее темные, блестящие от слез глаза сияли тем же таинственным огнем, к которому он только что прикоснулся.
Если бы только она была христианкой, подумал он, ее, несомненно, можно было бы назвать самым святым и самым любящим человеком из всех людей, которых он знал. Как добра была она к прокаженным, как сильно любила она свою бабушку и свою наставницу аббатису! Какой набожной она была – хотя набожной, увы, в своей еретической вере – и какой милосердной и самоотверженной в своих поступках! Отправилась одна в самую гущу битвы, да еще и без оружия…
«Восхитительная женщина!» – подумал Мишель, а потом внутренне содрогнулся от осознания того, что она была не просто арестанткой, которую он мог, хотя и с огорчением, передать в руки гражданских властей для вынесения смертного приговора.
Не просто арестанткой, на чью смерть он мог бы смотреть со скорбью и жалостью и чье осуждение на вечные муки он мог бы оплакивать. Ее слова, ее сила, само ее присутствие так тронули его, что он потерял власть над своим сердцем.
И сколько бы еще ни было отмерено ему жизни, отныне он всегда будет делить свое земное существование на время до и время после встречи с этой женщиной.
«Боже, прости меня. Боже, прости мне мое вожделение. Не дай ему помешать мне допросить ее как положено. Дай мне скромно выполнить свой долг, порученный мне Тобою…»
– Так, значит, Люк погиб? Да? Ваши усилия оказались напрасны? – мягко спросил Мишель. – И из-за этого вы и плачете, матушка?
Она покачала головой и с заметным усилием взяла себя в руки.
– Даже теперь я не могу говорить об этом. Я устала. Я должна отдохнуть.
И она осторожно откинулась на деревянную доску.
– Матушка, – сказал Мишель, по-настоящему встревожившись. – Вы должны найти в себе силы продолжить. Для того чтобы вы были признаны невиновной, епископу Риго потребуется нечто совсем не похожее на эти ваши показания. Поверните свое сердце ко Христу, сознайтесь в вашем преступлении, и тогда, быть может, мы сумеем освободить вас из тюрьмы.
– Они хотят моей крови, – произнесла она глухим от изнеможения голосом, настолько усталым, что в нем не чувствовалось ни раскаяния, ни страха. – И они получат ее независимо от того, что я скажу.
Из горла Мишеля вырвался вздох негодования.
– Но откуда вы можете знать это, матушка?
– Ах, бедный брат мой, я знаю. – Она посмотрела на него с бесконечной жалостью. – Так же как и ты знаешь гораздо больше, чем позволяет тебе тюрьма, в которой находится твой разум. Ведь сны Люка очень живые, разве не так?
Неожиданный вопрос застал его врасплох. Сердцем он верил всему, что она рассказывала, как и тому, что эти сны были воспоминаниями покойного Люка. Но разумом он верил в Христа и Церковь и знал, что все, что она говорит, – это самая страшная ересь, а он сам – на грани потери своей бессмертной души.
Опустив лицо, он покачал головой, не в силах совладать со сложностью происходящего.