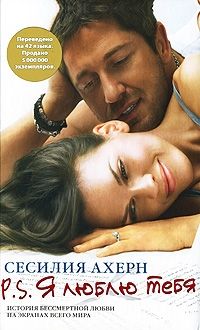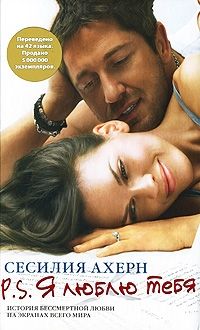Год, когда мы встретились - Ахерн Сесилия
Когда тебе некуда пойти, время начинает течь поразительно медленно. Я стала замечать окружающих, чаще ловлю на себе посторонние взгляды и даже ищу, с кем бы установить зрительный контакт. Хотя бы зрительный. А если удается еще и поболтать… считай, день не зря прошел, насыщенный событиями. Но все спешат, все заняты, и я кажусь себе невидимкой. Это совсем не так приятно, как мне думалось раньше, когда я старалась быть незаметной, неуловимой, и от этого возникало ощущение легкости и свободы. А теперь, наоборот, гнетущей тяжести. Я влачу унылое существование, старательно себя убеждая, что я легкая, видимая, даже бросающаяся в глаза, жизнерадостная и очень нужная. Полноценная, свободная личность. Но мне плохо удается себя в этом убедить.
Еще одна неприятность, вызванная потерей работы, – это неожиданные визиты моего отца. Он навещает меня без приглашения, экспромтом.
Вернувшись домой, я обнаруживаю его и свою сводную сестру Зару у себя во дворе. Заре три года, отцу шестьдесят три. Три года назад он ушел на покой: продал свой издательский бизнес за очень приличные деньги, позволяющие ему жить с комфортом. Как только родилась Зара, он взял на себя все заботы о ней, стал, так сказать, практикующим отцом. Его жена Лейла ведет занятия по йоге, у нее свой зал. Замечательно, конечно, что папа получил второй шанс, снова кого-то полюбил и в полной мере ощутил, что такое настоящее отцовство, впервые в жизни. Он и подгузники менял, и по ночам вставал, и кашу варил, и делал, что там еще необходимо делать, когда у тебя маленький ребенок. Его буквально распирает от гордости, что у него такая потрясающая дочь, он сияет, когда говорит о ее удивительных достижениях. Она растет, она умеет ходить и разговаривать. Она такая талантливая, он способен часами рассказывать, что она сегодня сделала и что сказала, и какую картинку нарисовала – прямо чудо, в ее-то возрасте! Да, это, безусловно, замечательно. Прелестно. Но все это он делает, как в первый раз, как человек, у которого никогда ничего подобного в жизни не было.
Последние месяцы я начала об этом задумываться – благо времени у меня предостаточно. Удивительно, что же он раньше так не восторгался, почему не впадал в экстаз, когда мы с Хизер были маленькие? Ну или он очень умело прятал свое восхищение за маской недовольства и раздражения. Иногда, когда он в очередной раз расписывает необычайные способности Зары, мне хочется заорать в ответ, что другие дети тоже так умеют, представь себе, папа, например, мы с Хизер делали все то же самое, а значит, и мы были необыкновенные. Но я сдерживаюсь. Это выставило бы меня злобной неврастеничкой, а я вовсе не такая, и вообще нечего скандалить на пустом месте. Я говорю себе, что это все от безделья – заняться нечем, вот и лезут в голову мрачные мысли.
Я часто думаю: если бы мама была жива, как бы она отнеслась к тому, что он стал заботливым, преданным мужем и отцом? Иногда она отвечает мне так, как в свои последние дни – ласково, всепрощающе, мудро, а иногда я слышу усталый голос измученной матери-одиночки, и слова ее наполнены горечью и злостью. То, что я слышу, зависит от моего собственного настроения. Мама умерла от рака груди в сорок четыре года. Слишком рано, чтобы умирать. Мне было девятнадцать. Слишком рано, чтобы осиротеть. Конечно, ей было очень тяжело, она не готова была покидать этот мир. Ей еще столько хотелось увидеть, столько сделать, ведь она все откладывала на потом, дожидаясь, пока я закончу школу, повзрослею и она сможет пожить своей жизнью. Она не завершила свои земные дела, строго говоря, она даже не успела многие из них начать. Первого ребенка она родила в двадцать четыре, через год второго, незапланированного. То есть меня. Она нас вырастила и сделала для нас абсолютно все, и несправедливо, что у нее не осталось кусочка жизни на себя саму.
Когда она умерла, я жила в кампусе, а Хизер осталась в интернате, куда переехала, когда мама еще проходила терапию. Иногда мне непонятно, как я могла быть такой эгоисткой и не забрать Хизер к себе. Кажется, я ей даже не предлагала. Понятно, что мне нужно было устраивать свою жизнь, но удивительно – в тот момент это вообще не пришло мне в голову. Я не сделала ничего плохого, но плохо, что я даже не подумала об этом. Оглядываясь назад, я понимаю, что и маме могла бы помогать больше. А я оставила ее справляться с проблемами в одиночку. Я могла бы проводить с ней больше времени, чаще разговаривать – тогда, когда она была жива, а не теперь, когда ее уже нет. Но подростков ничего, кроме них самих, не интересует, и потом с мамой была моя тетя.
Мы с Хизер «ирландские близнецы», то есть погодки. Она при этом обращается со мной так, словно я младше на много-много лет, и это очень трогательно. Я знаю, что родилась «случайно», у мамы не было намерения рожать еще одного ребенка сразу после появления на свет Хизер. Мама была огорошена, а папа просто в ужасе: мало ему было одного младенца, да еще с синдромом Дауна, а тут и второй на подходе. Хизер его пугала, он не знал, как себя с ней вести. Когда я родилась, он стал все больше отдаляться от семьи, предпочитая общество тех женщин, у которых хватало сил и времени, чтобы его холить и лелеять.
Зато мама держалась на редкость решительно и стойко, хотя потом она и признавалась, что у нее «поджилки тряслись от страха». Я этого никогда не замечала, не видела, чтобы она колебалась или сделала неверный шаг, впечатление было такое, что у нее все под контролем. Она много шутила и всегда просила прощения, если считала, что неправа. Я переняла это у нее. Я твердо знала, что Хизер важнее, что ей нужно больше внимания, но никогда не чувствовала, что меня любят меньше, просто так уж оно сложилось. Когда мама умирала, я знала: если кого она и не хочет здесь покидать, так это Хизер. Хизер нуждалась в ней, у мамы были насчет нее планы, которые она не успела исполнить, и она страшилась оставлять свою старшую дочь одну в этом мире. И это нормально, я все понимаю. Сердце у меня разрывалось, и не только от жалости к себе, но и к ним обеим тоже.
Есть стереотипное мнение, что люди с синдромом Дауна непременно беззаботные и лучезарные. Хизер не такая, у нее, как и у всех нас, бывают плохие и хорошие дни, но в принципе – и это не имеет никакого отношения к синдрому Дауна – она оптимист. Ее жизнь подчиняется строгому распорядку, ей это необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно, вот почему, когда я заявляюсь к ней с бухты-барахты, на работу или домой, она теряется и даже начинает нервничать. Хизер нужен режим, твердое расписание, и в этом, как и во многом другом, мы с ней полностью схожи.
Зара прыгает по камням, которыми вымощен двор, стараясь не наступать на выемки между ними. Настаивает, чтобы папа прыгал вместе с ней. Он прыгает. Я знаю, что теперь для него это в порядке вещей, но все равно, глядя, как он скачет, потряхивая животиком и с трудом сохраняя равновесие, не могу удержаться от мысли, что этот человек мне незнаком. Он поднимает голову и видит, что я направляюсь к ним.
– Не знала, что вы зайдете, – беспечно говорю я.
Перевод: ты меня не предупредил, ты обязан был это сделать.
– А мы решили прокатиться по побережью, посмотреть на прибой, правда, Зара? – Он подхватывает ее на руки. – Расскажи Джесмин, какие мы с тобой видели волны.
Он всегда говорит со мной через нее. Да, такая манера есть у многих родителей, но меня бесит, что он так делает. Я бы предпочла общаться с Зарой сама, а не под его диктовку. В итоге мне приходится дважды выслушивать одно и то же.
– Волны были огромные, правда? Расскажи Джесмин, какие они были.
Она кивает. Делает большие глаза и задирает руки, чтобы показать мне – да, волны были о-го-го.
– А как они бились о скалы? Расскажи Джесмин.
Она опять кивает:
– Они бились.
– И заливали весь пляж, а потом выплескивались на дорогу. Где это было? В Малахайде, да? – Он говорит специальным «детским» голосом, а я думаю, что уж лучше бы взял и попросту рассказал все сам.