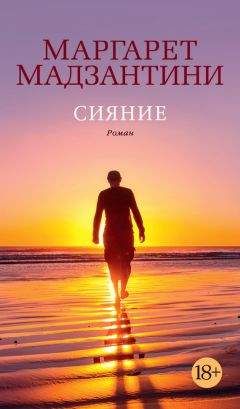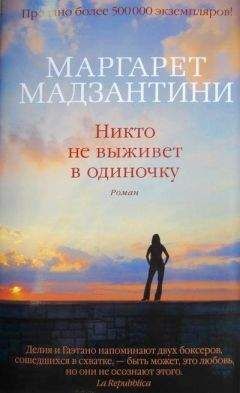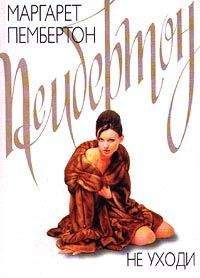Не уходи - Мадзантини Маргарет
Мы медленно ехали мимо церкви с непомерно крутым каменным крыльцом, казалось, что оно вот-вот рухнет на дорогу. На ступеньках расположилась группа людей, одетых по-праздничному. Худенькая женщина с маленькой девочкой на руках и в розовой шляпе кувшином проводила нас взглядом, поворачиваясь всем корпусом. Я встретил ее глаза — живые, светящиеся недобрым любопытством. На девочке было полосатое платьице, женщина держала ее так, что платьице задралось до трусиков. В глаза мне бросились лиловатые ножки ребенка, его неказистое тельце. Все, что теперь проходило перед моими глазами, казалось мне что-то означающим, и, возможно, оно действительно было темным следом какой-то второй, незаконной судьбы, которая, чтобы как-то проявиться, имела только одну возможность — внедрять свои опознавательные знаки в вещи, попадавшиеся мне по пути. Получалось, что моя поездка была не просто поездкой, она была некой аллегорией, насыщенной тайными обозначениями. Ножки девочки казались безжизненными, личико ее было повернуто так, что видеть его я не мог… Возможно, она испугалась меня, и именно поэтому ее мать впилась в меня таким зловещим взглядом.
Я перестал смотреть по сторонам, мне не особенно хотелось погружаться в этот полный символов беспорядок. В конце концов я сосредоточился на грязненькой речке, которая наверняка принимала в свои тощие воды разные отбросы и чем-то притягивала целое облако мошкары.
Человек, сидевший со мною рядом, блистал молчанием и высокой профессиональностью. Проезжая через населенные пункты, он сбрасывал скорость, точно хотел доставить всем, кто еще жив, возможность поклониться гробу и пробормотать молитву. Его лицо в эти минуты меняло выражение, на нем появлялся целый букет всевозможных намерений. Он начинал самовыражаться, всерьез принимался за сумрачную роль возницы, везущего покойника в последний путь. Проехав через какую-нибудь деревню, он знал, что позади оставил повод для серьезных раздумий. Но я, внимательно глядя на его профиль, открыл в этом человеке и ироническую нотку. Да, вся его миссия, помимо всего прочего, была еще и карнавальной сценкой, подобной выходке какого-нибудь хулиганистого мальчишки, который, напялив костюм Смерти, размахивает бутафорским серпом перед носом у прохожих, заставляя их вздрагивать от испуга. И тут я понял: эти черные очки, надежно закрывавшие его лицо, служили для многих целей… Он ехал медленно, рассекая встречную толпу, та жалась к стенам, оттягивалась в углы, говорящие замирали на полуфразе, все головы поворачивались к нам, все глаза глядели только на нас, — позади нас оставалось объятое робостью стадо.
Потом мы выехали к морю, это произошло совсем неожиданно. Я в задумчивости сидел, прижавшись к окошку лбом. Море появилось нежданно между моим глазом и черной седловиной носа, это была голубая неподвижная полоска. Прошел поезд, до того близко, что я инстинктивно отпрянул от стекла. Шоссе шло вдоль железной дороги, а я этого и не заметил, рельсы, оказывается, были совсем рядом. Поезд промчался, и море появилось снова. В воде группами разбросаны бетонные кубы, подпиравшие этот хрупкий берег, который волны все равно объедали, сейчас от него оставалась лишь узенькая кромка каменистого пляжа, потом сразу же шла железнодорожная насыпь. Потом было шоссе, потом убогая череда разнокалиберных домишек, которые густо теснились там, в глубине, выставив неровную гриву телевизионных антенн, уходившую к краю неба.
Мне, Анджела, следовало бы предупредить твою мать, я ведь напрочь забыл и о ней, и о тебе. Я затолкал вас в какой-то отдел памяти, где вы имели ко мне очень отдаленное отношение; об Эльзе я думал, как думают о жене своего друга, а тебе, Анджела, я вовсе не был отцом — я и сам в эти минуты был круглым сиротой, без роду без племени. И мой собственный глаз, отражавшийся в стекле, казался мне глазом какой-то озадаченной рептилии.
Огромный кран от умывальника проплыл мимо меня на рекламном щите. Дорога, на которую мы выехали, была много шире всех предыдущих. Гробовщик переключил скорость и дал мотору волю — асфальт наконец-то пошел сплошной. Разделительного барьера на этой дороге не было, любая из идущих по ней машин, разогнавшись, запросто могла выехать на встречную полосу. Тем более что все — я многому научился за время этой поездки — хотели убедиться, что траурный фургон едет именно с гробом. Таким образом, хорошенько разглядывая наш груз, любой водитель мог зазеваться и наехать на нас; мы, в сущности, были движущимся воплощением смерти. Это было здорово — умереть в похоронном фургоне, сидя рядом с гробовщиком. И какое-то время я оставался при убеждении, что именно такую кончину мне судьба и припасла. Но спутник мой, по-видимому, не имел об этом никакого понятия, был далек от любых предчувствий, он вел себе и вел машину. Руки его уверенно лежали на баранке, глаза за темными стеклами смотрели на дорогу.
Мы остановились заправиться бензином.
— Хотите что-нибудь съесть? — спросил он, глядя на стеклянный павильон за бензоколонкой.
Она вместе с нами из машины выходить не стала. И в тот раз, в последний, когда я остановился у автогриля, она из машины не вышла, дремала на сиденье, а может, просто делала вид, что дремлет. Я тогда через лобовое стекло поймал ее взгляд, вполне бодрствующий, когда обернулся, полюбовавшись перед этим на бездействующий голубой щеточный агрегат для мойки машин, и тогда я, помнится, подумал, что ничего у нас не выйдет, что я снова ее потеряю. Покупая в автогриле печенье, я, в сущности, знал, что она умрет…
Гробовщик ел, взял себе тарелку холодного риса и минеральную воду. За воротник рубашки он тщательно заправил бумажную салфетку. Я смотрел, как неторопливо он всем этим занимался — со спокойствием слишком намеренным, почти демонстративным; оно, конечно, шло от его характера, но выглядело еще и рекламой его ремесла. Через театральность своих манер он, казалось, приглашал ближних набраться терпения — ввиду перспективы совершенно неизбежной всеобщей смерти, которую он скромно представлял.
Около нас никто садиться не стал. Я начинал ценить преимущества путешествия в обществе могильщика, я не мог бы пожелать себе спутника более удачного — он и вилкой орудовал, не двигая головой и не нагибая шеи. Себе я взял фруктовый салат и пиво, пил из горлышка холодной бутылки, через стекло поглядывал на нашу похоронную колымагу, запаркованную внизу под навесом из стеклопластика. Я взял пластиковую вилку, стал ковыряться в салате, при этом темная виноградина выскочила из мисочки. Она угодила гробовщику в шею. От этого маленького ущерба, нанесенного его респектабельной внешности, он несколько растерялся. Он столько времени затратил, приспосабливая салфетку, и вот теперь я, правда случайно, умудрился попасть в единственный незащищенный краешек его образцово-белой рубашки. Он снял салфетку с груди, намочил ее в минеральной воде и стал оттирать пятно. Я у него даже извинения не попросил, я внимательно рассматривал темные волоски, которые теперь просвечивали через мокрое полотно, прилипшее к коже. Он снял очки, положил их на стол.
Я принялся за пиво, тянул его, пока ничего не осталось.
— Хотите кофе?
— Нет, спасибо.
Он отлучился, потом вернулся, неся только одну чашечку. Выпил кофе, взял так и не распечатанный пакетик с сахаром и засунул его в нагрудный карман пиджака. Очков он не надел, руки его задумчиво теребили сложенные заушники. Я прислонился к стеклу огромного окна, чувствуя коленями бездействующий радиатор отопления, осыпанный окаменевшей пылью.
— Она была вашей любовницей?
Его вопрос застал меня врасплох, таким же неожиданным оказался и ветер, ворвавшийся в листы стеклопластика.
— Почему вы так думаете?
Я так к нему и не повернулся. Пивная бутылка отражалась в стекле, бросала зеленые отблески на его грязную, ничего не выражавшую поверхность.
— У нее не было кольца, а у вас есть.
— Может, она его просто не носила…
— О нет, здешние женщины его непременно носят.
— Оно и потеряться может.