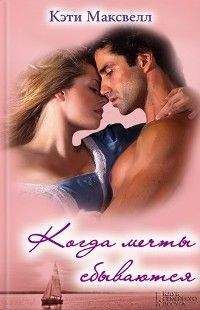Райская птичка - Гузман Трейси
– Замечательно, – сказал Финч. – А посреди всего этого разложения кто-нибудь находит время подумать о картине? О ее сюжете? Об эмоциях, которые пытался передать художник?
– Я вас умоляю, – махнул рукой Стивен. – Когда вы в последний раз были на выставке? Знаете, что там происходит?
– Когда в последний раз туда ходил ты?
– Я первый спросил.
– Смех да и только, – сказал Финч. – Этот спор смешон.
– Не думаю, что смех – подходящее слово. Мои аргументы далеко не бессмысленны и уж никак не абсурдны и не курьезны.
– У меня от тебя голова болит.
– Если бы вы просто ответили на мой вопрос… Люди ходят по музеям, чтобы посмотреть выставку, про которую кто-то сказал, будто ее надо увидеть. Подоплека в том, что если вы не сходите на эту конкретную выставку и не отреагируете на работы должным образом, значит, вы не ценитель искусства. Поэтому люди толпами набивают выставочные залы, послушно надевают наушники с аудиогидами и щурятся на миниатюрный шрифт подписей. Это не более чем модель для исследования стадного инстинкта. Людям говорят, что нужно думать о картине и что они должны на ней видеть. Они лишены возможности отойти на пару шагов и оценить перспективу или технику, потому что между ними и полотном обязательно влезет чья-нибудь непомерно большая голова. Потом они обрушиваются на банкетки, слишком твердые и повидавшие на своем веку слишком много посетителей с бог знает какими понятиями о гигиене. Положа руку на сердце, Финч, я очень сомневаюсь, что настоящие эмоции хоть как-то участвуют в этом процессе.
Сейчас Финчу хотелось засадить по чему-нибудь кулаком, а точнее, по кому-нибудь. Мысль о том, что такая плохо прикрытая агрессия будет витать за праздничным столом в священном доме его дочери, была просто невыносима. И нянчить Стивена весь вечер он тоже не горел желанием.
– Возможно, нам лучше изменить формат приглашения. Давай поужинаем со Стивеном в ресторане.
Он жалел, что вообще их познакомил. Впрочем, поскольку Стивен был у него в квартире, когда Лидия с мужем заскочили в гости, он никак не мог этому воспрепятствовать. Огонек, вспыхнувший в глазах Стивена, когда тот взял Лидию за руку, тотчас заставил Финча насторожиться. Сражен. Ни больше, ни меньше. Лицо Стивена напоминало морду несмышленого теленка, а глаза следили за каждым шагом Лидии. Просто скандал.
– Ты говорил, что ему неуютно на публике.
– Разве? Что-то не припомню. Возможно, я преувеличивал.
– Пап, все будет хорошо. Увидишь.
Что тут может быть хорошего? Финч потерял всякий интерес к ужину. Только когда запах горелой куриной кожи наполнил дом, он вспомнил о своем блюде. Останки птицы, сухие и ломкие, отправились в мусорку, брокколи вернулась в пластиковый пакет в холодильнике. Финч поплелся в кабинет, утешаясь шоколадным Сантой, которого незаметно взял из тарелки рядом с кассовым окошком в банке. С каждым часом он все больше злился на Стивена. Он собирается узурпировать мою семью!
Но стоило этой мысли мелькнуть у него в голове, как появилась Клэр и принялась бранить его за вредность.
Ему нужен друг, Денни. Как и тебе.
– У меня есть друзья.
Нет. Не обижайся, дорогой, но друзья были у нас. А у тебя есть знакомые. Это не одно и то же.
– Мне нужна только ты. Ты и Лидия. Больше никто.
Я с тобой. И у тебя всегда будет Лидия. Но ты не хуже моего знаешь, что это тоже совсем другое.
Образ жены задрожал перед ним и исчез. Как будто лампочка замигала и перегорела.
Финч помешал дрова в камине, налил себе стакан бургундского и, повозившись с цифровым проигрывателем, полученным в подарок от дочери, решил, что подходящим сопровождением его вечерней работе будут «Пять вариаций на тему баллады о богаче и Лазаре». Его рабочий стол был зоной бедствия: недельные залежи писем, сверху заваленные рядами папок от миссис Блэнкеншип, в которые она собрала годы переписки и газетных вырезок Томаса. Стивен предложил ему перебрать их в надежде раскопать нечто полезное. По-новому оценив трудовой подвиг миссис Блэнкеншип, Финч попытался не воспринимать свою задачу как секретарскую, но настроение у него ухудшилось, когда он взял наугад какую-то пачку и начал перелистывать старые пожелтевшие бумаги, многие из которых засалились и уже крошились по краям.
Объявления о выставках многолетней давности, выцветшие газетные фотографии с владельцами галерей и меценатами, толпившимися вокруг Томаса, который на многих снимках смотрел куда-то вдаль с удивленным выражением лица. Ожидаемые предложения преподавательских должностей, приглашения выступить перед публикой и мольбы молодых художников, обещавших натягивать холсты, точить карандаши, таскать плащ – что угодно, лишь бы дышать одним разреженным воздухом с человеком, обладающим, как выразился кто-то из просителей, «высшим знанием того, что универсально во всех нас».
Требуха. Финч потер лоб, надеясь снять расползавшееся между бровями напряжение. Читать такую лесть было изнурительно. А слушать ее изо дня в день? Неудивительно, что Томас превратился в отшельника. Вскормленный вниманием и россыпями похвал, выпестованный превосходными степенями, в какой-то момент он, абсолютно естественно, пресытился восхищением и достиг черты, за которой просто хочется остаться одному. Если человеку дается великий дар, обречен ли он жить в услужении у этого дара, лишенный всего остального?
Но чем больше Томас замыкался, тем сильнее публика сходила по нему с ума. Где он живет? Как он живет? Что его вдохновляет? Если бы его обнаружили вмерзшим в глыбу льда на вершине Канченджанга [41], нашлись бы желающие вскрыть его черепную коробку, чтобы определить, откуда у него такой талант. Прилипалы и хвостики, те, кто готов на тебя вешаться, те, кого уже сняли, и те, кому не судьба. Ни один человек в здравом уме не захочет такой жизни, понимая ее последствия.
Финч продолжал перелистывать пачку, пытаясь придерживаться какого-то порядка. Счета, которые даже не открывались. Выписки из банковских счетов, неиспользованные чековые реестры, обзоры, которые годами присылали Томасу его многочисленные представители. Письма, в основном с пометкой «лично» (подчеркнутой). Все они явно были написаны женской рукой, но за редкими исключениями остались нераспечатанными. Финч рассеянно перебирал их, пока один из конвертов не привлек его внимание. В верхнем левом углу было напечатано «Стоунхоуп-вэй, 700, Вудридж, Коннектикут». Дом, из которого они со Стивеном только что вернулись. Дом Кесслеров.
Конверт не был запечатан, но Финчу трудно было сказать, открывали его или он просто расклеился от времени. Дата на марке едва просматривалась, кажется, письмо было отправлено то ли одиннадцатого, то ли семнадцатого июня 1972 года. Финч осторожно вытащил из конверта точно рассчитанную по его размеру открытку и положил ее на стол. Она была куплена в сувенирной лавке музея. Такие открытки печатают для передвижных выставок. Лицевую сторону занимала фотография одной из ранних работ Томаса, картины маслом, на которой три женщины стояли в темном коридоре. Вслед за ними тянулись нити золы, а их волосы, как змеи, вздымались к потолку, освещенному голой лампой. Когда Финч раздвинул створки открытки, из них выпало фото.
– Томас, – прошептал он, чувствуя, как из его груди одним ударом вышибло весь воздух.
На фотографии молодая и очень беременная Элис Кесслер стояла на заднем дворе своего дома на Стоунхоуп-вэй, обхватив руками живот. А на обратной стороне размашистым, текучим почерком было написано: «Я знаю, что ты сделал. Н.»
Финч отодвинул кресло от стола и побрел вместе с фотографией к камину. Он сел на кожаную тахту, придерживая края фото пальцами обеих рук. К горлу подступила паника. Он жалел, что не может обратить вспять ушедшую минуту, сунуть фотографию обратно в открытку, открытку обратно в конверт, конверт обратно в пачку, и пролистать ее, пролистать, не заметив адреса.