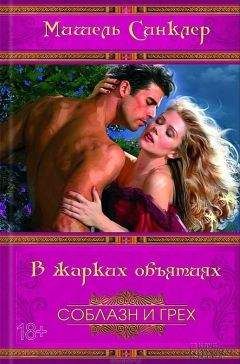Венецианский бархат - Ловрик Мишель
Едва Фелис научился ползать, как направился прямиком к шкафу, в котором хранились серебряные тарелки. Сунув внутрь свои пухленькие маленькие ручки, он выбрал небольшое элегантное блюдо с фестонами по краям и присел над ним на корточки, украсив его крошечной и аккуратной кучкой фекалий. Когда в комнату вошла мать, он поднял блюдо обеими ручонками и вручил его ей, благостно улыбаясь при этом, словно куртизанка, угощающая благородного клиента сладостями, приготовленными в монастыре. Не исключено, что в доброте своей, будучи малышом чрезвычайно наблюдательным, он подметил и решил вознаградить тот вполне естественный восторг, который испытывала его мать при виде безупречно работающего кишечника сына. Но, вне всякого сомнения, это была первая презентация его собственной работы, причем в духе, который и послужил для маленького Фелиса источником вдохновения.
Он оказался восхитительным ребенком: «Херувим, маленький ангелочек», – хором ворковали над ним родственницы. Его показывали вдовам и богатым дамам Вероны, как настоящий трюфель. К шести годам он уже изъяснялся, словно миниатюрная копия Петрарки. Он знал, как доставить удовольствие, и любил делать это. Пышные комплименты – роскошные по слогу и цвету, коих не сыскать было даже в любовных песнях, – слетали с его пухлых губ. Очаровательно шепелявя, он выдавал что-нибудь вроде: «Ресницы благородной дамы похожи на ноги стройного кузнечика или озимую рожь, стебли которой колышет дуновение зефира».
Поначалу все думали, что он станет писателем. Но Фелис был лишен фантазии и выдумки: он умел лишь украшать то, что уже было придумано кем-то до него. Слова имели для него значение только в тот момент, когда их безупречно произносили его губы или, что еще важнее, выводило его перо. Любая история для него заключалась в разборе ее начертания вплоть до последней буквы с нижним выносным элементом. И маленький мальчик, который мог вырасти в кого угодно, решил стать писцом. Он выбрал для себя старинный гильдейский костюм и носил все свои рабочие принадлежности в котомке, привязанной к поясу.
Вскоре в мире манускриптов мнение Фелиса стало значить очень много. Известно, например, что это он рекомендовал к использованию «Q» с длинным хвостиком, «R» с завитушкой и «М» с двойной засечкой [88]. Эти варианты стремительно стали не только модными, но и обязательными к употреблению.
Люди цитировали его афоризмы о буквах: «Хороший почерк – все равно что бог, дарующий счастье. Корявый – не только свидетельство неумелости, но и надругательство над красотой, вроде гнойного нарыва на лице или прекрасной поэмы, произнесенной на варварском диалекте».
А каким искусником он был! Перо в его руке походило на волшебную палочку чародея. Оскорбить его могло лишь проявление дурного вкуса. В порыве дружбы он назначил себя музой художника Андреа Мантеньи, которому посвятил целое собрание римских эпитафий, и зятя Андреа Джованни Беллини [89], коего наставлял относительно одежд ангелов.
Слава непревзойденного любовника бежала впереди Фелиса. Говорили, что его поцелуи подобны утонченному полету цапли. Исходящий от него запах мускуса не уступал аромату сандалового дерева. Однако же сердце его оставалось свободным.
Он окидывал женщин долгим и критическим взглядом. Он знал, какие изменения в течение дня претерпевают их кожа и глаза. Он приветствовал их вопросом: «Насколько вы сегодня красивы?» Их руки невольно взлетали к прыщикам, которые он разглядел.
Удивления достойно, но женщин он себе выбирал далеко не лучших.
– Безупречная красота, – утверждал он, – подобно чистой воде, также безвкусна.
И посему он предпочитал девушек с необычными чертами лица или фигурой, забавляясь с ними в поисках особенных удовольствий.
Иногда люди относились к нему подозрительно, как вызывает наше подозрение мужчина, который не любит вино, устриц или музыку. Фелис походил на безупречно накрытый стол: дорогой полупрозрачный фарфор, позолоченные канделябры, цветы, но на тарелках нет ничего, что могло бы доставить наслаждение полнокровному едоку с нежным сердцем.
Однако все они неизбежно поддавались его обаянию, правда, самые подозрительные сдавались последними.
К Фелису совершенно не приставала пыль, которой с головы до ног покрыты некоторые любители древностей, но в остальном он был далеко не безупречен. Одни тихонько перешептывались, а другие во весь голос с хохотом рассказывали в тавернах о том, что благоуханный Фелис любит мальчиков. В 1467 году были найдены сладострастные и противоестественные стихи, написанные его непревзойденным почерком. Его авторство было сочтено достоверным настолько, чтобы на некоторое время изгнать его из города.
Тогда Фелис перебрался из Вероны в Венецию, где и подружился с типографами вместо того, чтобы стать их врагом, как случилось с большинством писцов, крайне недальновидных, по его мнению. Он вовсе не думал, что печатники лишат его работы, – напротив, они дадут ее ему. Ну и, разумеется, Венеция, такое впечатление, была создана специально для того, чтобы даровать удовольствие Фелису Феличиано. Она стала для него своей, городом с женственной фигурой и лицом, чей вспыльчивый и бурный нрав связывал воедино ее трудолюбие и ее искусство.
Все, заработанное им в городе, он тратил на керамику и фаянс, шелка, атлас и украшенное драгоценными камнями оружие. Взгляд окрест с верхней площадки кампанилы [90] он готов был променять на созерцание стеклодувов Мурано за работой. Фелис стоял рядом со своей грифельной доской, пока мужчины выдували свои легкие по трубке в комок расплавленного красного стекла. Впоследствии он разработал алфавит, округлое начертание букв в котором очень напоминало хрупкие разноцветные формы стеклодувов, наполненные воздухом.
Прибыв в Венецию, Фелис остановился в гостинице «Стурион» в Риальто. Она предлагала все необходимые удобства: чистую постель, хорошую еду и прекрасное месторасположение в самой оживленной части города. Успех гостинице обеспечивала пользующаяся широкой известностью очаровательная Катерина ди Колонья, управлявшая «Стурионом». Она одевалась со всей тщательностью только для того, чтобы проследить, как опорожняются помойные ведра. Любой, завидев ореол ее волос цвета червонного золота, замирал на месте и поджидал, затаив дыхание, пока она приблизится. Ожидание стоило того, чтобы увидеть, какую восхитительную коллекцию шелков, золотой проволоки или цветов – которая никогда не была слишком показной, но всегда радовала глаз, – она вплетала в свои кудри, в любое время года источавшие едва уловимый аромат глицинии.
Она распоряжалась своими гостями, словно хороший аптекарь, с олимпийским спокойствием, будто отмеряла нужные дозы снадобья от тех недугов, что мучили их. Хотя чаще всего их мучило неутоленное желание овладеть ею. Фелис знал, что когда в гостинице поселялись супружеские пары, каждый день в номерах пыль стояла столбом от ритмичного скрипа кроватей – это мужья делали вид, что демонстрируют Катерине ди Колонья свое искусство, воспламененное желанием обладать ею, а жены притворялись, будто они и есть сама хозяйка гостиницы. Крепко зажмурившись, каждый из супругов достигал громкой и вдохновенной кульминации, после чего немедленно засыпал, так и не открыв глаз, дабы сохранить безупречность своих фантазий.
В присутствии такой красоты, какой обладала Катерина, – или, как утверждал Фелис, в качестве естественной реакции на нее, – повсюду в Венеции пышным цветом расцветало счастье в виде импровизированных празднеств и застолий. Фелис любил вечеринки и частенько украшал их своим присутствием, неизменно уходя заблаговременно и приняв меры к тому, чтобы его отсутствие было замечено.
На одной из таких вечеринок он и встретил еврейку Сосию Симеон, чьи загадочные черты каким-то образом сумели просочиться сквозь ее маску, так что он смог заметить ее живое лицо в дальнем углу комнаты.

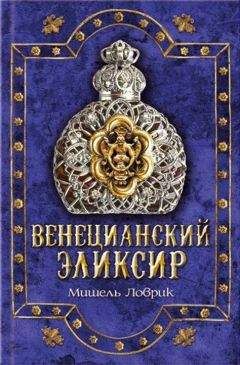
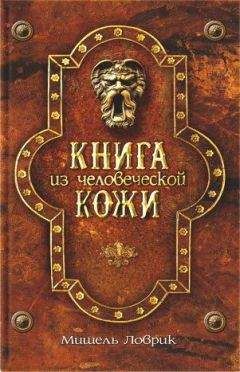
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)