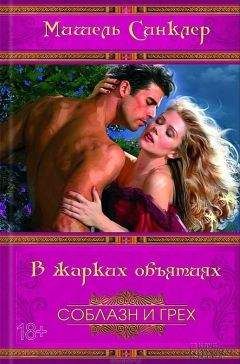Венецианский бархат - Ловрик Мишель
– Мы поженимся на самом деле? – спросил он у нее однажды, когда всем остальным давно уже стало ясно, что дело идет к свадьбе.
Вручая ей кольцо, он не преминул опуститься перед ней на одно колено. Неуклюжий, как щенок, он протянул к ней свои короткие ручищи и склонил набок большую голову. Девушка, уже без памяти влюбленная в его голубые глаза и твердо решившая, сколько сыновей у них будет, со смехом упала в его объятия.
– Я беру в жены ангела? – поинтересовался изумленный Венделин. – Я тебе нравлюсь хоть немножко?
– Очень сильно. Вот сколько, – улыбнулась она и поцеловала его в оба глаза.
На следующий день он появился на работе взъерошенный, что было верным признаком того, что ему снились эротические сны. Его работники-венецианцы улыбнулись про себя и хлопнули друг друга по плечам.
Глава вторая
…Дом ни один никогда любви подобной не видел, Также любовь никогда не скреплялась подобным союзом Или согласьем таким…
Моя мать зачала меня, когда ей было столько же, сколько мне сейчас, – на пять лет меньше, чем старой двадцатилетней карге, и на пять больше, чем десятилетнему ребенку. Она говорила, что все случилось из‑за лошади. Думаю, это было сказано для того, чтобы я отстала от нее, ибо разве можно встретить в этом городе лошадь?
Да, она хорошо подыграла ей, эта лошадь. В то время я, будучи совсем еще маленькой, могла лишь расспрашивать ее о лошади – поскольку любила этих животных всем сердцем.
– Расскажи мне о лошади! – хныкала я.
Я хотела знать о ней все, вплоть до мельчайших подробностей. У нее и правда были четыре ноги, высокие, со взрослого мужчину, и могла ли она бегать так же быстро, как летит по высокой приливной волне лодка? Была ли она белой, как пена прибоя, или же серой, как старая бочка? А звуки, которые она издавала, походили на простуженное мартовское чихание?
Несколько лет подряд я не спрашивала ее ни о чем, кроме лошади. И только после того, как я впервые легла в постель с собственным мужем, я додумалась поинтересоваться у матери окончанием той истории. Оказалось, что она была в деревне, ехала на двуколке, которую как раз и тащила лошадь, когда отец вдруг решил немедленно заняться с ней любовью. Зад лошади, которая, кстати, все-таки была белой, двигался так ловко и легко, что его мысли, и без того подогретые вином, устремились к акту любви, и ему ничего не оставалось, кроме как заняться этим с моей матерью прямо в двуколке. Лошадью, естественно, никто не правил, и она, волоча вожжи, медленно брела по дороге от одного городка до другого.
Вот так на свет появилась я. Я родилась на суше, где у родителей была ферма, хотя оба они были родом из этого города. Но к тому времени, как мне исполнилось пять, отец перевез нас обратно в этот город. Он затопил свой участок земли, подведя к нему слишком много оросительных каналов.
– Этот сумасшедший хочет устроить Венецию на terraferma [55], – услышала я, как прошипела одна фермерская жена другой.
Между прочим, она оказалась права – поскольку он больше не мог прожить и дня, чтобы в нос ему не били запахи моря, а на стенах не играли блики волн. Он бросил свою затопленную водой большую ферму, всех лошадей (и у меня был совсем маленький конек), корову, пшеницу, виноградники и даже павлинов, которые пронзительно орали во дворе, и вернулся в старый сырой дом в Венеции, где родился.
Ему пришлось мириться с перешептываниями тех, кто говорил, будто он потерпел неудачу на суше. Хотя все они в глубине души сознавали, что уехать из этого города, если ты родился в нем, – все равно что умирать медленной смертью. Рано или поздно вам самим придется признать это и сделать выбор: или жить червем в грязи на твердой земле – потому что жирный и богатый червяк все равно остается червяком, – или вернуться домой, к чистому и славному морю, чтобы жить, как рыба, но рыба, наделенная душой.
Поэтому вскоре я уже просыпалась в комнате, на стенах которой плясали отблески огней маяка, и стала расти, сначала на два фута над краем моря, потом на три, а потом и на четыре.
Мой отец купил лавку, небольшое предприятие, которое намеревался увеличить. Он работал и пил, работал и пил. Когда он возвращался домой, от него разило вином, и я не хотела, чтобы он целовал меня. Но он все равно делал по-своему. Тогда я плотно сжимала губы, а потом ждала, пока он уйдет, и только тогда начинала дышать снова. Затем я выходила к каналу, раскидывала руки в стороны и кружилась на одном месте, чтобы запах его поцелуя унесло ветром.
Лавка моего отца была cartolaio [56], и в ней продавались книги и всякие штуки для них. Его клиенты могли заказать для себя рукописную книгу, чтобы ее изготовили и переплели, или принести старую книгу, чтобы ее украсили новой обложкой или же золотом и темперой нарисовали буквы вверху каждой страницы. В его маленькой темной лавке у Риальто запах краски вытеснял из моего носа запах рыбы, когда я приходила к нему. (Разумеется, мне не разрешалось трогать книги, которые он продавал, и я могла лишь нюхать их, когда он протягивал их мне.) Я вечно просила его: «Поднеси страницу к свету!» – чтобы стали видны водяные знаки: птичка, латная рукавица или даже единорог! Они нравились мне больше слов на странице, хотя я и их научилась читать, причем легко, и читала лучше своего отца.
Отец пытался наделать шуму в городе своей гладкой бумагой, сделанной из тряпок и растительных масел, которая была белее козьей шкуры, но стоила вполовину дешевле и пахла сладкой пылью. Он покупал ее на мельницах на terraferma и продавал с прибылью в городе.
Главной целью его честолюбивых устремлений стали чужеземцы, которые пришли к нам не так давно и которые говорили, что могут использовать его бумагу для изготовления книг. Это были не те книги, которые переписывали писцы, по одной в год, каждое слово в которых было словно вырезано из дерева. Нет! Это были быстрые книги! Восемь раз по двадцать книг рождались сразу, словно стая мух, и каждая была законченной и хорошей, как и каждое слово в них. Мой отец буквально бредил мечтами о том, что эти книги сделают нас богатыми.
Они пришли с Севера, эти мужчины, которые делали быстрые книги. С собой они принесли маленькие острые инструменты, годившиеся только для книг. Каждый из этих инструментов производил кусочек слова. Каждое слово становилось частью страницы, и так далее.
Однажды отец взял меня с собой, чтобы посмотреть, как эти мужчины с Севера работают над быстрыми книгами. Они делали их в немецком fondaco у моста Риальто. Я должна была ждать внизу, пока отец поднимется наверх и узнает, можно ли мне войти и посмотреть на их работу.
И вот я сидела на ступеньках моста и глядела на стекла третьего этажа, и вдруг заметила лицо, которое показалось мне знакомым, хотя раньше я никогда не видела его.
Я ощутила дрожь, которая начинается в затылке и прошивает все ваше тело насквозь, ища выхода. Внизу живота у меня стало горячо, а во рту появился привкус цитрусового ликера, и свет стал каким-то странным, словно солнце подхватило лихорадку и запачкало свой белый глаз.
Я не стала дожидаться отца и взбежала по лестнице в самое сердце fondaco. Почему-то я знала, куда надо идти, хотя никогда не бывала здесь прежде. Отец очень удивился, увидев меня. Он стоял рядом с тем человеком, лицо которого я увидела, а тот улыбался и улыбался, но тоже стал бледным, как свернувшееся молоко, завидев меня. У него были светлые, как у цыпленка, волосы, а одевался он строго и чопорно, будто в новый сосновый гроб. Я подняла правую руку, прося их обождать, пока переведу дыхание. Они дали мне отдышаться, а потом я заговорила.
Отец сказал: «Познакомьтесь с моей…», но я остановила его, взяв за руку. Я сказала так быстро, как только могла, и слова водопадом хлынули у меня изо рта:

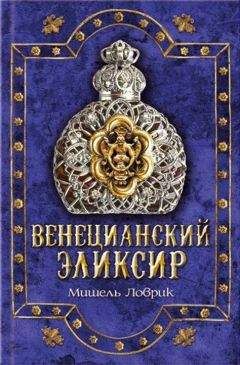
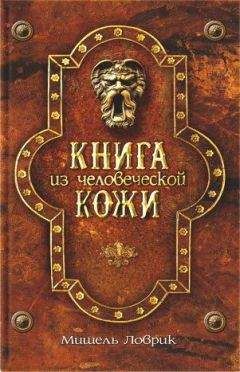
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)