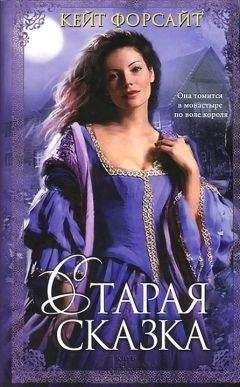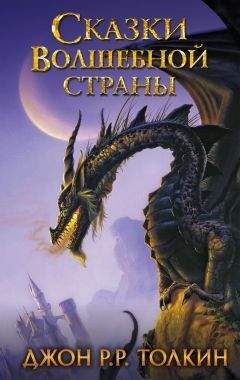Старая сказка - Форсайт Кейт
Паскалина бережно перевязала Маргерите палец, подогрела суп, а потом стала кормить ее с ложечки, как маленькую, и дочка послушно открывала рот. Затем Паскалина усадила Маргериту себе на колени и принялась баюкать ее, напевая колыбельную.
– Farfallina, bella e bianca, vola vola, mai si stanca, gira qua, e gira la – poi si resta spora un fiore, e poi si resta spora un fiore… Бабочка, красивая и белая, летай себе, летай, никогда не уставай, порхай и здесь и там – и вот она отдыхает на цветке… И вот она отдыхает на цветке.
Уже давно сгустились сумерки, когда домой наконец вернулся Алессандро.
– Простите меня. Она заставила меня ждать очень долго, – устало пояснил он. – Chiacchere уже спит?
Маргерита на открывала глаз, прижавшись щекой к материнской груди.
– Пока ты обивал пороги ее дворца, La Strega Bella пришла сюда и откусила Маргерите кончик пальца.
– Что?! – Алессандро наклонился и бережно взял Маргериту за руку, рассматривая перевязанный палец. – Она сошла с ума?
– Это – предостережение.
– Мои руки. – Алессандро тяжело опустился на лавку. – Если мы не отдадим ей Маргериту, она обвинит меня в воровстве, и мне отрубят обе руки. Как мы тогда будем жить?
– Ты видел ее? – поинтересовалась Паскалина, когда молчание стало невыносимым.
Алессандро покачал головой.
– Она не пожелала принять меня. После долгого ожидания ко мне вышел этот ее слуга-кастрат. Было очень странно слышать, как такой гигант разговаривает высоким, писклявым голосом. Он сказал…
– Что она не сжалится над нами, – мертвым, невыразительным голосом закончила Паскалина после того, как муж умолк на полуслове, будучи не в силах продолжать.
– Да. Она не смягчится. Она говорит, что я обокрал ее и теперь должен понести наказание. Господь свидетель, это была всего лишь пригоршня листьев, которая ровным счетом ничего не стоит, но ведь она может заявить, что угодно, и судьи поверят ей. Она спит с большинством из них.
Маргерита чувствовала, как тяжко вздымается материнская грудь, к которой она прижималась щекой.
– Бедная моя девочка.
– Ей исполнилось уже семь лет, – хриплым и незнакомым, каким-то надтреснутым голосом заговорил Алессандро. – Она достаточно взрослая, чтобы отправиться в монастырь или поступить на службу. Будь у нас еще дети, мы были бы счастливы тем, что она хорошо пристроена.
– Но она у нас одна, наша родная маленькая девочка. Мы не может отдать ее в руки той женщине. Только представь, что она с нею сделает.
– Кастрат заявил, что синьорина Леонелли будет обращаться с Маргеритой, как с собственной дочерью. Она пойдет в школу и ни в чем не будет нуждаться.
– Но для чего она ей нужна? Или она хочет… – голос у Паскалины дрогнул и сорвался.
– Он поклялся мне, что синьорина Леонелли не станет… обучать нашу девочку своему ремеслу. По его словам, она пообещала, что с нею все будет в порядке.
– Мне… мне позволят видеться с нею?
Ответом ей стало долгое молчание.
– Не думаю, – наконец нашел в себе силы произнести Алессандро.
Паскалина вновь крепко прижала к себе дочь.
– Моя малышка. Прости меня, прости.
Маргерита не могла говорить. В животе у нее образовалась пустота, словно она спускалась по лестнице в темноте и вдруг обнаружила, что ступеньки под ногами куда-то исчезли.
– Пойдем, я уложу тебя спать, родная моя. Я подоткну тебе одеяльце. Все в порядке, у нас все будет хорошо, обязательно. – Паскалина уложила Маргериту в постель и бережно пристроила забинтованную руку поверх одеяла. Она присела на край кровати и стала гладить дочку по голове.
Прижимая к груди клочок своего детского одеяла, Маргерита смотрела на лицо матери, бледное и напряженное в свете свечи.
– Мама, за что? – прошептала она. – Почему эта женщина хочет отнять меня у вас? Почему она откусила мне кончик пальца? Что она имела в виду, когда сказала, что ты обещала отдать ей меня?
Любит-не-любит
Кастельротто, Италия – ноябрь 1580 года
– Вся моя семья умерла от ужасной лихорадки, – сказала Паскалина, убирая непослушную прядку волос со лба Маргериты. Там, откуда я родом, мы называли ее blitz-katarrh [62], потому что она поражала стремительно и внезапно, как молния. Однажды моя мать пожаловалась, что у нее раскалывается голова и ей больно глотать. Через несколько дней она скончалась, а вся моя семья металась и горела в лихорадке. Я делала все, что могла, честное слово, но я и сама была больна. К тому же мне тогда было всего четырнадцать. А помочь мне было некому. Вскоре они все умерли: мои родители, дедушка с бабушкой, младшая сестра и маленький братик.
У меня нет слов, чтобы описать весь тот ужас. Я не знала, что мне делать. Пришли сборщики трупов и уволокли тела, а потом свалили их в яму за городом. Меня заперли в доме, заколотив окна и двери, и я провела там сорок дней и ночей. Думаю, что тогда со мной случилось легкое помешательство. Мне ничего не оставалось, кроме как расхаживать по нашему маленькому дому, молиться и петь самой себе колыбельные. Дни тянулись бесконечной чередой, и я отмечала их черточками, которые рисовала углем на стене над очагом. Но на сороковой день никто не пришел, чтобы освободить меня. Я разбила окошко на чердаке и обнаружила, что улица пуста. Смерть унесла почти всех жителей.
Мне пришлось воровать еду из опустевших домов. В одном из них я наткнулась на мертвую женщину, рядом лежал умерший ребенок. Никто не позаботился отвезти трупы в яму за городом, куда сваливали умерших. Поэтому я оставила их лежать на месте, прихватив лишь несколько монет с каминной полки.
Я не знала, куда мне деваться. Я вышла на главный тракт и побрела по нему вниз с горы, потому что так идти было легче. Я шла и шла, просила милостыню или нанималась на какую-нибудь работу за еду. Иногда люди были добры ко мне. Иногда – жестоки. И нигде я не находила счастья или хотя бы умиротворения. Участь, постигшая членов моей семьи, шла за мной по пятам.
Через два года после смерти родителей я добралась до Венеции. Она показалась мне сказочным городом, плывущим над водами лагуны, словно его сотворил добрый волшебник. Я сидела на лугу и смотрела на это чудо, срывала цветы у себя под ногами – клевер, маргаритки и лук виноградный – и плела венок. Потом я спустилась к берегу, и какой-то мальчишка перевез меня на лодке через лагуну в обмен на поцелуй.
К этому времени моя одежда превратилась в лохмотья. Ноги были босыми. Очень сильно хотелось есть. Я ощущала себя легкой и невесомой, как пушинка, которую могло унести легчайшим дуновением ветра. Стояло лето. Мои ступни холодил мощеный булыжник площадей. Я наобум бродила по городу, шла туда, куда несли меня ноги. Вот так я и вышла на резной каменный мост, который вздымал свои широкие арки над водой, словно маленький город, выстроенный на лучах радуги. Я карабкалась по ступенькам, пока не поднялась на седьмой уровень с его сдвинутой набекрень каменной шапкой, и там остановилась, облокотившись о перила. Далеко внизу на воде подернулось рябью мое отражение, и я спросила себя, кто эта девушка… худенькая девушка с венком из полевых цветов на огненно-рыжих волосах. Она нисколечко не походила на ту Паскалину, которую я знала. Кажется, я заплакала. И вдруг на воде рядом с моим лицом появилось еще одно: ко мне подошел какой-то молодой человек.
– Почему вы плачете? – спросил он.
Я едва не ответила ему, что мне ужасно одиноко, но потом испугалась, что он неправильно поймет меня, поэтому я сказала ему, что голодна.
Он помолчал, а потом спросил:
– Вы не продадите мне свой венок? Здесь, в городе, нам нечасто попадаются такие красивые цветы.
Я кивнула, стянула с головы венок и отдала ему. Взамен он дал мне мелкую монетку и рассказал, как пройти на рынок. Я поблагодарила его и, выждав, пока он пройдет подальше, тайком последовала за ним. Так я узнала, что он живет в лавке, в которой висели самые диковинные и необычные предметы, какие я когда-либо видела, – маски, сверкавшие драгоценными камнями, позолотой и яркими красками. Лавка показалась мне настоящей пещерой Али-Бабы, полной сказочных сокровищ. Над лавкой было окно, в котором в ящике на подоконнике росли цветы и травы, а на веревке, протянутой над моей головой, висел чудесный ковер. Его выбивала щеткой милая и добрая на вид женщина. Ноздри мои уловили запах супа и свежеиспеченного хлеба. Картина эта выглядела настолько домашней и уютной, что я снова заплакала. Всем сердцем мне хотелось оказаться в таком вот доме.