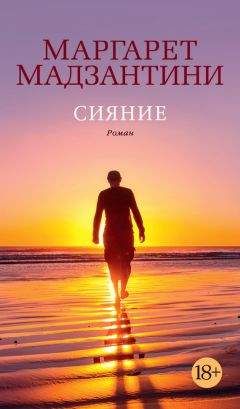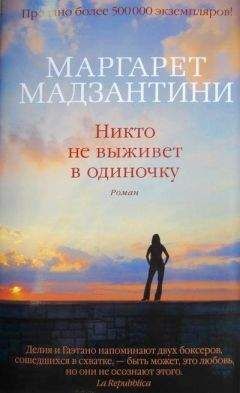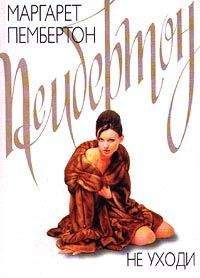Не уходи - Мадзантини Маргарет
— Я клянусь тебе. Анджелой клянусь.
Двое больных во дворе остановились, уселись на скамейку, закурили. Возле газонов с цветами идет женщина среднего возраста, в пальто кирпичного цвета. Это человечество, дочка, оно бурлит, оно кишит, оно куда-то карабкается. Человечество продолжается, оно бежит дальше. Что же теперь будет с нами — с тобой, с твоей матерью? Что будет с твоей гитарой?
Сначала мы занимались любовью, потом замерли, не делали ни одного движения. Сейчас мы лежим и слушаем, как жужжат автомашины на виадуке, жужжат так близко… Кажется, что они проносятся прямо по крыше. Нужно одеваться и ехать домой, но как нелегко выпростаться из этой смолы, она так крепко держит в плену. Сейчас, сейчас… куда они запропастились — эти чертовы носки, и брюки, и ключи от машины… При этом я не шевелю и пальцем. Завтра я уезжаю, мне придется выступать на конгрессе по онкохирургии — да только никакого желания туда переться у меня нет. Италия тихонько гладит мой локоть — это она прикидывает, много ли одиночества навалится на нее через минуту. А я прикидываю, каким будет конференц-зал, и вижу себя в очках, и свою физиономию на фото, рядом с напечатанной фамилией, и каждого из своих коллег с такой же пластиковой карточкой на лацкане, тоже снабженной фото, и гостиничный банный халат, и бар-холодильник, в который можно забраться ночью…
— Знаешь что, поехали-ка со мной.
Ее голова поворачивается на подушке, глаза у нее расширены, в них недоверие.
— Да, да, поехали!
Она качает головой:
— Нет, нет.
— Да почему же?
— Мне нечего надеть.
— А ты поезжай прямо в трусиках. Ты в них замечательно выглядишь.
Через час или два, уже глухой ночью, я с красным карандашом в руке правлю свой доклад, перечитываю его снова и снова, что-то подчеркиваю, что-то убираю и добавляю и в конце концов звоню ей.
— Ты уже спала?
— Мне ведь лучше не ехать, правда?
— Я заеду за тобой в шесть. Не рано?
— Если передумаешь, не беспокойся. Я пойму.
В шесть утра она уже стоит у дороги, подкрашенная по всей форме. Странная клоунообразная фигура, маячащая в сером свете начинающегося дня. Целую ее. Кожа у нее ледяная.
— Ты давно меня ждешь?
— Я только что подошла.
Какое там «только что», она совсем закоченела. На ней черный жакет с подбитыми ватой плечами — слишком массивными, доходящими до шеи, — с куцыми рукавами. Кисти рук в каких-то разводах и от этого похожи на мраморные. В машине она потирает ладони, опустив их на колени. Я включаю печку на максимум, нужно побыстрее нагнать тепла. У нее отрешенное выражение лица, замерзли даже глаза. Она не шевелится, не стремится устроиться поудобнее, остается как есть: сидит напряженно, не облокачиваясь на спинку. Но потом понемногу расслабляется от тепла, а машина тем временем бежит по пустынной полосе автострады. Я дотрагиваюсь до кончика ее носа:
— Ну что, уже лучше?
Она улыбается и кивает.
— Здравствуй, — говорю я.
— Здравствуй, — отвечает она.
— Как поживаешь? — спрашиваю я и просовываю ладонь между ее коленями.
Городишко этот состоит из туфовых построек, улочек с односторонним движением и стрелок, усердно отсылающих тебя на внешнюю, обводную магистраль. Завожу машину на стоянку. Мы предварительно договорились, она знает, что я заказал для нее отдельный номер. Рисковать мне не стоит — на конгрессе будет тьма коллег, должен приехать и Манлио. Приближаясь к подъезду гостиницы, мы делаем вид, что не знакомы. Италия волнуется, куда нужно идти, она не знает, но выступает весьма надменно. С собою она захватила чемодан на колесиках, слишком большой для такой короткой поездки. Чемодан наполовину пуст, она, чуть склонившись набок, вышагивает с ним рядом. Я-то привык к таким коротеньким командировкам, на этот случай у меня кожаный саквояж — небольшой, удобный, элегантный — подарок Эльзы. Сегодня утром я без привычного живота — затянул ремень на лишнюю дырку. Двигаюсь легко, настроение у меня преотличное, я чувствую себя школьником, отправленным на экскурсию. Догнав ее, провожу ладонью по ее заду. «О, синьорина, пардон, тысяча извинений!» Она сохраняет серьезность, не оборачивается, не удостаивает меня взглядом, она знает, что здесь она чужая. На ней этот неимоверный жакет и юбка, чуть длиннее, чем нужно, — попытка не слишком бросаться в глаза.
Мне ключ от номера выдают сразу же, Италия что-то начинает выяснять у портье. Двое коллег меня догоняют, мы обмениваемся приветствиями.
— Сауна у вас уже горячая или придется ждать? — спрашиваю я у девушки в голубом жилете, которая заносит в регистрационную книгу мои данные, — это предлог, чтобы задержаться у стойки лишнюю секунду. У человека, с которым Италия разговаривает, в руке карандаш, он скользит им вдоль списка заказанных номеров. Она поворачивается ко мне, беспомощно смотрит. Я подхожу ближе.
— Что, у моей коллеги есть какие-то проблемы?
Портье поднимает глаза на меня, потом бросает какой-то особенный взгляд на Италию.
— Надо подумать, куда эту синьору поселить. Ее нет в списке приглашенных.
Губы у Италии покрыты толстым слоем помады, волосы в беспорядке от постоянного обесцвечивания… Она сжимается в своем синтетическом жакете, подтягивает к себе нелепый чемодан — она чувствует: этот человек пытается понять, кто она такая. Она смотрит на его голову, склонившуюся над стойкой, — и возможно, уже раскаивается, что сюда поехала…
Вот она проходит через холл, и лицо у нее при этом дерзкое, почти вызывающее. Черты стали совсем грубыми — еще бы, ведь в душе у нее сейчас неразбериха, тут лучше всего уйти в оборону. Мы вместе входим в кабину лифта. Мы там одни, но я до нее так и не дотрагиваюсь. Смотрю ей вслед и морщусь, как от боли, — она шагает по коридору на своих покривившихся высоченных каблуках — и я морщусь. Комнаты у нас оказываются на одном этаже, портье все понял. В коридоре нет ни души. Италия входит в мою комнату. Она не присаживается и даже не смотрит по сторонам, только грызет ногти.
Конгресс длится четыре дня, идут своим ходом групповые конференции, совещания, курсы усовершенствования. Италии не хочется выходить из гостиницы, она лежит в постели и смотрит телевизор. Еду ей заказываю я, тарелки приносят прямо в комнату. Сам я ужинаю в гостиничном ресторане вместе с коллегами. При этом никуда не тороплюсь, ем со смаком, болтаю и даже шучу. В душе у меня тихое удовольствие: там, наверху, моя женщина, которую никто не видит и которая каждую секунду готова скользнуть в мои объятия. Она ждет меня, закрывшись на ключ. И каждый раз, когда я стучу, я слышу торопливые шаги ее босых ног, смягченные ковром. Разговаривает она тихо: ей кажется, что нас могут услышать. Ей жалко, что вторая комната, моя, практически пустует, — на прейскуранте, прикнопленном к двери, она прочла цену, и ее бросило в жар. В своей она не взяла даже минеральной воды из бара — и пьет из-под крана. Я сержусь, но ее не разубедить. Она не выходит из комнаты и, когда являются горничные, усаживается в уголке и смотрит, как они работают. Ночью мы любим друг друга целыми часами, совсем не спим. Италия закидывает голову за подушку, горло у нее подрагивает, волосы свешиваются на пол. Она словно ищет что-то, находящееся рядом со мной, нащупывает местечко, куда можно пристроить некую неприкаянную часть самой себя. При этом она как будто выскальзывает из моих ладоней. Глаза ее устремлены в окно, подсвеченное огнями фонарей во дворе отеля. Еще там есть фонтан, но его, когда приходит положенное время, выключают. Италия нарочно поднимается с постели, чтобы эту сцену не пропустить, ей нравится смотреть на струю, иссякающую прямо на глазах. Говорит она мало, ничего не просит, понимает, что она вовсе не новобрачная и путешествие наше отнюдь не свадебное. Я никогда не узнаю, сколько мужчин любили ее до меня, но знаю, что каждый из них, лаская ее или бесцеремонно лапая, помогал ей вылепиться, стать такой, какая она теперь.
Однажды вечером мы все-таки оставляем ключи на стойке, выскальзываем из холла и выходим прямо в темноту ночи. Я подарил ей белые туфли — приметил эту пару в какой-то витрине и купил для нее. Туфли оказались Италии велики, пришлось положить в носки туалетной бумаги. Городок весь устремлен к вершине холма, испещрен переулками и переулочками, застроен домами из серого камня. Теперь вот уже пятки Италии выглядывают из чересчур просторных туфель. Мы взбираемся наверх до самой вершины, пройдя мимо городской ратуши. Облокотившись на парапет бельведера, смотрим вниз, на ночную долину, усеянную звездочками огоньков. Потом спускаемся на несколько ступеней и оказываемся на площадке, вымощенной булыжниками. На ней какие-то приспособления для детских игр. Поскрипывают качели на ветру, вокруг темнота, и только церковная колокольня с готическим шпилем выныривает из темноты благодаря подсветке и парит над темными крышами. Мы сидим на каменной скамье и смотрим на деревянную лошадку, у которой вместо ног здоровенные пружины; меланхолическая нотка проникает в наше секретное уединение. Все эти игры и игрушки, возле которых нет детей, настраивают нас на грустный лад. К тому же и скрип пустых качелей портит нам настроение. Италия встает со скамьи, усаживается на железное сиденье качелей, отталкивается разок-другой, раскачивается все сильнее и сильнее. Белые подвенечные туфли свалились, она не обращает на них внимания.