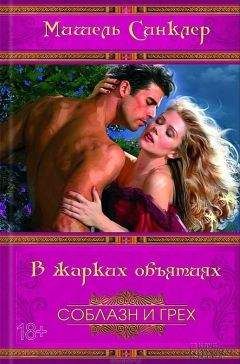Венецианский бархат - Ловрик Мишель
А потом я написал поэму, дабы увековечить эту докучливую и беспокойную маленькую птаху, ее заносчивого воробья, будь проклята его грудка в черных пятнышках! Кажется, она любила эту птицу, насколько вообще была способна любить. То, что любила Клодия, любил и я, причем со всем присущим мне талантом: в голове у меня мгновенно родилось воздаяние, трепещущее легкими звуками. Я полагал, что она вознаградит меня за него, но Клодия отшвырнула дощечку, едва удостоив ее беглого взгляда.
– Тебе нравится? – поинтересовался я, не поднимая глаз.
– Не жди, что я стану любить тебя более возвышенно только потому, что ты мнишь себя поэтом, – лениво протянула она. – И не думай, что я не понимаю двусмысленности, которую ты вложил между строк.
(Видишь, брат, как она умна? Она моментально догадалась, что в моей поэме речь идет о маленькой птичке, которая начинает трепетать у меня между ног при одной только мысли о ней.)
– Неужели тебе совсем не нравится то, что я пишу о тебе? – взмолился я.
Она лишь небрежно передернула плечами, словно говоря, что ей не впервые приходится играть роль музы.
Клодия! Ты спрашиваешь, что в ней есть такого, что позволяет забыть о ее холодности. Понять это пытались многие мужчины. Теперь настала моя очередь. И я бы сказал, что непревзойденная слава Клодии – лишь отраженное сияние вожделения и похоти, которые испытывали к ней многие. Каждый видит в ней женщину, которую в то или иное время желал другой мужчина. Она преломляет и возвращает желание вместо того, чтобы впустить его в себя, и этим похожа на пыльную лампу, которая, как кажется, дает свет, но на самом деле лишь порождает в темноте уродливую пляску тусклых пятен.
Я знаю, что у всех женщин есть свои фантазии; знаю, что они мысленно в любую минуту способны представить себе нового возлюбленного, иногда в тот момент, когда сверху на них еще лежит прежний. Но фантазии – одно, а воспоминания – совсем другое. Клодии не нужно представлять себе, что это такое – совокупляться с некоторыми высокородными и многими низкорожденными мужчинами в Риме. Ей нужно лишь обратиться к архивам и тайникам собственной кожи, чтобы вспомнить их дары и пожертвования, ухищрения и выносливость. Когда я возлежу с Клодией, то никогда не чувствую, что остался с нею наедине. С таким же успехом одиночкой может воображать себя и слепая летучая мышь, находясь в пещере, в колонии себе подобных.
Мысль эта приводит меня в содрогание, как, впрочем, и любого другого на моем месте, но меня – больше, чем кого-либо, ведь я боюсь, что другие мужчины прокрались с нашего любовного ложа в мои стихи. Эти мужчины слились в моем воображении в гигантского колосса по имени «не Катулл». В определенные моменты, когда я, казалось бы, должен забыть обо всем, меня вдруг пронзает напоминание о них: мои ногти, волосы и зубы натыкаются на драгоценные камни, которые подарили ей другие любовники. Она никогда не снимает их. Даже голая, она выглядит омерзительно шероховатой из‑за горных кряжей и россыпей золота и рубинов.
Клодия и сама балуется сочинительством. Она пишет небольшие и остроумные эпиграммы, и я завидую каждому ее слову о любви. Ибо я не уверен, что они обо мне.
Для самой же Клодии любовь, исходящая от меня, Катулла, – не более чем докучливая муха.
Но мои поэмы о ней – другое дело. Проблема в том, что их трудно забыть (в отличие от тех, что пишет Целий). Мои песни лишь придали сияния и блеска ее репутации: из‑за них Клодия стала пользоваться большей популярностью и славой, чем прежде.
Прошло немного времени, и мои друзья стали передавать друг другу их экземпляры. Каким-то образом мои поэмы просочились за пределы нашего круга и вышли на улицы, где влюбленные принялись цитировать их друг другу. Память римлян вообще легко усваивает сладкозвучные слова.
Ну и, разумеется, любой может воспользоваться чужой фразой к своей выгоде. Поэтому я не знаю, плакать мне или смеяться оттого, что уже и торговцы всех мастей расхваливают свой товар, используя отрывки из моих стихотворений. Продавец сирийских колбасок и торговец египетскими орехами выучили их наизусть, и они даже нацарапаны на стенах купален. Но мое имя пока не связывают с ними. Я обрел безвестную славу, чего не планировал и к чему не стремился изначально.
Поэтому, когда я прихожу к мастеру, изготавливающему восковые фигурки, и принимаюсь описывать ее, он перебивает меня двустишием из поэмы о воробье, выразительно приподняв брови.
Глава первая
…Коль язык ты держишь за зубами, Наслаждений теряешь половину…
Одно из изобретений Иоганна Гутенберга вселило сильную тревогу в членов венецианской collegio [48]. В город начали поступать печатные книги из Майнца, вытесняя с рынка местных писцов. Поползли слухи, что немцы вознамерились установить печатные станки в самой Венеции. Радикальная фракция потребовала запрета печати в La Serenissima [49] и сохранения старинной культуры переписи книг вручную.
Доменико Цорци, коллекционер книг и ученый-схоласт, умолял коллег одуматься. Восемнадцатого числа марта месяца 1467 года он обратился к вельможной знати с речью, посвященной Иоганну Гутенбергу.
– Некоторые из вас проклинают его имя, шепотом называя его посланником Люцифера. О чем вы говорите? Прошу молчания и внимания! Вместо этого давайте рассмотрим с нашей славной венецианской рациональностью поразительное изобретение, которое призвано не уничтожить нашу историю, а соединить узами брака прошлое и настоящее.
Очевидно, Гутенберг родился примерно семьдесят лет назад в семье мелкого дворянина, но никак не простолюдина, обратите на это внимание, досточтимые пэры. Первым его гениальным деянием стало массовое производство зеркал, каковое должно внушить уважение венецианцев к нему самому и его воображению! Мне докладывают, что идея отливать буквы из металла пришла к нему, когда он разливал расплавленный свинец или олово по стеклянным пластинам.
Году этак в 1450 этот Гутенберг изобрел подвижные литеры. Я вижу, что вы озабоченно хмуритесь, но, уверяю вас, концепция сия совсем не трудна. Это всего лишь процесс, позволяющий печатать страницы непрерывного текста с помощью металлических букв, собранных воедино в деревянных формах. Я бы с удовольствием продемонстрировал вам простейшие приспособления, но, разумеется, в Венеции они до сих пор запрещены.
Эта диаграмма наглядно показывает простоту процесса: вот все его части по отдельности и вместе. Все настолько просто, что я поражаюсь, как никто не додумался до этого раньше! Подобно изобретательности Господа Бога нашего с хлебами и рыбами, это удивительное устройство позволяет авторам давать пищу для ума большим массам людей, причем каждому по отдельности, но одновременно, причем по цене, позволяющей любому респектабельному мужчине расширить или собрать библиотеку.
Я спрашиваю вас, милорды, сейчас, когда турки и генуэзцы выражают бурное недовольство у нашего порога, можем ли мы и дальше почивать на лаврах? Повернуться спиной к такому прорыву в мире механизмов? Остаться стоять, подобно аистам в воде, пряча голову под крыло, чтобы не видеть, как мир за пределами Венеции устремляется вперед?
Более того, неужели вы не видите, сколь прекрасны эти образцы печатных страниц? Разумеется, они – немецкие по стилю и исполнению. Но насколько красивее они были бы, если бы буквы разработали венецианские мастеровые! В умелых руках книгопечатание способно стать столь же великим, как и живопись маслом, милорды, подобным искусству Джованни Беллини [50], новым украшением нашего славного города.
И не просто украшением: книгопечатание обогатит наш разум. Кое-кто осмеливается издевательски утверждать, будто мы, венецианцы, не обладаем интеллектом в подлинном смысле этого слова; что мы никогда не изобретем какое-либо учение или философию; и что глубокая мысль никогда не родится в нашей среде. Наш город – рай для чувств, как с завистью отмечают чужеземцы, но он пожирает наши идеи с такой же легкостью, с какой вода проникает в краску, заставляя ее осыпаться хлопьями.

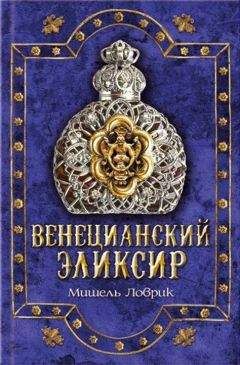
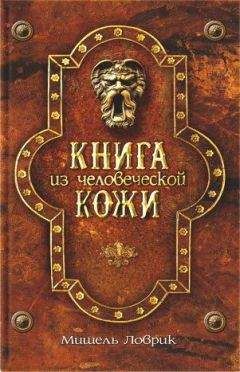
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)