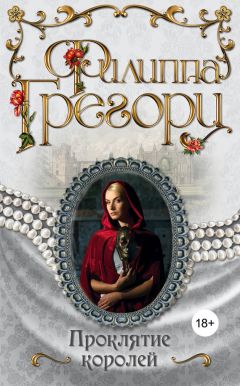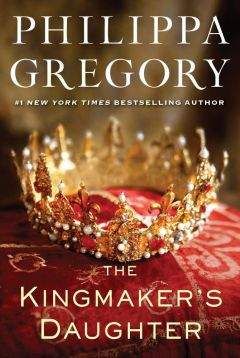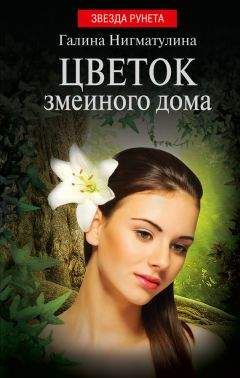Проклятие королей - Грегори Филиппа
Мы получаем известие об этом в середине февраля, и горожане звонят в колокола, радуясь, что бедные безземельные северяне побеждены лордами, которые всего несколько месяцев назад стояли с ними плечом к плечу. Говорят, сэр Кристофер Дакр убил семьсот человек и взял оставшихся в плен, а потом перевешал на чахлых деревцах, кроме которых на суровом северо-востоке ничего не растет, а Томас Кромвель обещал ему графский титул за службу.
Вдохновившись этим зверством, Томас Говард объявляет на севере военное положение, что означает, что у магистратов и лордов теперь нет власти против Говарда. Он может быть и судьей, и присяжными, и палачом на суде над тем, кто лишен защиты. Он объявляет войну своим же землякам; это без труда дается человеку, который казнил собственных племянника и племянницу. Он без подготовки проводит слушания в маленьких городках и раздает смертные приговоры, которые исполняются на месте. С ним сотни солдат. У изготовителей цепей в Карлайле кончилось железо, и приходится вешать приговоренных, обмотав веревкой, чтобы виден был их позор. Томас Говард вешает крестьян не в городе, а в их собственных садах, чтобы все в деревне знали, что путь паломников снова привел их домой, на смерть. Люди Говарда являются в каждую деревушку, на каждый голодный хутор, в самое холодное время года, и требуют назвать тех, кто шел с паломниками или принес им обет. Кто звонил в церковные колокола, переменив звон. Кто молился о возвращении церкви. Кто выступил в поход, но еще не вернулся.
Монтегю пишет мне из Гринвича, где сейчас живет двор, записку.
Король приказал Норфолку обойти все монастыри, которые хоть как-то сопротивлялись. Он говорит, что монахи и каноники должны послужить ужасным примером для остальных. Думаю, он хочет их убить. Молись о нас.
Я не понимаю, что за времена сейчас. Читаю письмо сына, – дважды, трижды, – и сжигаю, выучив страшные слова наизусть. Иду в часовню, опускаюсь на колени на холодный каменный пол и молюсь, но через некоторое время осознаю, что просто перебираю четки и качаю головой, словно не хочу принимать ужас, который творится с теми, кто звал себя паломниками и шел за благодатью.
Король услышал, что некоторые вдовы и сироты срезали тела своих мужей и отцов, казненных как мятежники, и тайно похоронили их на кладбище, ночью. Он прислал к Томасу Говарду гонца с приказом отыскать эти семьи и наказать их. Тела велено вырыть из освещенной земли. Он хочет, чтобы трупы висели, пока не сгниют.
Леди матушка, по-моему, он сошел с ума.
Томас Говард, герцог Норфолк, против собственной совести повинуется королю во всем; закрывает монастыри и захлопывает двери тех, что открыл заново. Объяснения этому ни у кого нет, да кажется, что оно и не нужно. Теперь здания намереваются передать лордам, живущим по соседству, чтобы они разобрали их на строительный камень, а земли продать окрестным фермерам. Общины больше не смогут искать в аббатствах утешения и помощи, монахи станут нищими бродягами. В сотнях, нет, тысячах часовен, у тысяч придорожных алтарей больше не будут взывать к Богоматери. Отныне никаких паломничеств, никакой надежды. С севера приходит песня, в которой поется, что мая не будет, я выглядываю сквозь толстое стекло в серый двор, где медленно тает снег, и думаю, что весна в этом году не принесет ни радости, ни любви, что месяцы и в самом деле сменят друг друга, но не будет веселого мая.
Как только дороги высыхают настолько, что по ним становится можно ездить, я покидаю Лондон и отправляюсь в Бишем. Гарри едет домой с отцом, личико у мальчика озадаченное: время года, обещавшее так много, совсем не кажется весной. Я сажусь на лошадь позади своего конюшего, ради удобства прислонившись к его широкой спине, и большой конь ровным наметом несет нас по грязной дороге в Беркшир.
Поэтому меня нет в городе, когда Тома Дарси сажают в Тауэр и допрашивают. Том не церемонится с этой братией, у него, благослови его Господь, крутой нрав. В кармане у Тома королевское прощение, но все равно его арестовали. Он смотрит в лицо Томасу Кромвелю, понимая, что тот ему и судья, и присяжные, и все же говорит, пока его слова записывают как свидетельство против него самого:
– Кромвель, именно ты – первая и главная причина всех нынешних восстаний и бед.
Когда сын кузнеца щурится от этих честных слов, Дарси предрекает ему неизбежную смерть на эшафоте и говорит, что, если настанет день, когда в Англии останется всего один дворянин, этот единственный лорд точно отрубит Томасу Кромвелю голову.
Джона Хасси, бывшего мажордома принцессы, тоже берут под стражу, и я вспоминаю, как терпеливо он наблюдал за мной, пока я тянула время, составляя опись драгоценностей принцессы, как верно любила ее его жена. Я молюсь о том, чтобы никто не рассказал принцессе, что ее бывший мажордом арестован и его допрашивают в Тауэре.
Допрос этот, как бы долог, тщателен и полон мелочных угроз ни был, мало помогает Кромвелю, поскольку ни Том Дарси, ни Джон Хасси не назовут ни единого имени. Дарси молчит о том, как выступил с паломниками, как открыл им ворота замка Понтефракт. Говорит, что у него остались в сундуке кокарды после давнего похода в Святую землю, но отказывается открыть, кто получил их из его рук. Он говорит:
– У старого Тома в голове предательства ни на зуб, – и остается верен до последнего.
Генри Куртене пишет мне:
Молитесь обо мне, кузина, ибо меня назначили Судьей в Суде пэров над двумя добрыми лордами, Джоном Хасси и Томом Дарси. Кромвель обещал мне, что, если мы признаем Тома виновным, он изменит его приговор на изгнание и после Том сможет вернуться домой. Но для Джона Хасси надежды нет.
Я читаю это письмо, стоя возле кузницы, жду, пока подкуют мою лошадь, и едва смысл написанного укладывается у меня в голове, бросаю письмо в огонь и поворачиваюсь к гонцу в ливрее Эксетеров.
– Вы сейчас же возвращаетесь к хозяину?
Он кивает.
– Передайте ему вот что. Смотрите, слово в слово, без ошибок. Скажите, что я вспомнила старую поговорку; это не мои слова, это присказка, которая ходит в деревнях. Скажите, что деревенские говорят: ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь. Запомните?
Он кивает.
– Я ее слышал. Так говорил мой дед. Он жил в неспокойное время. «Ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь».
Я даю гонцу пенни.
– Больше никому ничего не рассказывайте, – добавляю я. – И это не мои слова.
Я жду новостей о суде. Мне пишет Монтегю.
Джон Хасси погиб. Дарси признан виновным, но его помилуют и пощадят.
Это ложь величайшего лжеца, Кромвеля. И поговорка верна: ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь. Лорды думают, что им обещали спасти Тома Дарси, потому и признают его виновным – и ждут, что король заменит смертный приговор изгнанием.
Но король предает великого сына Англии, и Тома отправляют на плаху.
Я думаю о Томе Дарси, о том, как он надеялся, что найдет смерть в крестовом походе, сражаясь за веру, и когда мне говорят, что его обезглавили как изменника в июне на Тауэрском холме, когда ласточки сновали от реки к Тауэру и обратно, строя гнезда, я понимаю, что он умер за веру, как и желал.
К черному ходу является разносчик и говорит, что у него есть славный товар, только для меня. Я спускаюсь во двор конюшни, где разносчик сидит на седельной подставке, с сумкой у ног. Увидев меня, он кланяется.
– У меня для вас кое-что есть, – говорит он. – Я сказал, что отдам это вам и уйду. Так что я ухожу.
– Сколько?
Он качает головой и вручает мне кошелечек.
– Тот, кто мне это дал, сказал, что желает вам удачи и что настанут лучшие времена, – говорит он, вскидывает свой груз на плечо и выходит со двора.