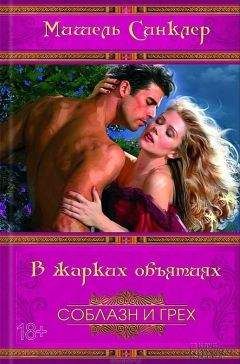Венецианский бархат - Ловрик Мишель
– Да ты и впрямь самый красивый парень в университете.
Бруно зарделся, поскольку Фелиса знали все, и ответил:
– Но мой почерк ужасен.
– Я прощаю тебя, – ответствовал Фелис. – Твое лицо извиняет тебя. Мы станем друзьями. Близкими друзьями.
В устах красавчика Фелиса, чье смуглое лицо с безупречными чертами считалось одним из украшений Падуи, это был нешуточный комплимент. Бруно вновь покраснел и целомудренно отвернулся. Когда же он поднял голову, Фелис все еще кивал головой и восторженно улыбался.
Они стали проводить вдвоем все свободное время, совершая вылазки в лес, дабы поупражняться в стрельбе из лука. Бруно в совершенстве овладел этим искусством, хотя домой возвращался подавленным, неся в руках длинные стрелы из молодых побегов, унизанные тушками певчих птичек.
Когда учеба требовала, чтобы Бруно оставался у себя в комнате, на острове Сант-Анджело Джентилию навещал Фелис, принося ей письма и подарки от брата. Бруно и сам отправлялся туда при первой же возможности. Джентилия не выглядела ни счастливой, ни несчастной, но явно не бедствовала и даже изрядно прибавила в весе. Отороченный кружевами подол ее платья был чистым, волосы расчесаны до тусклого блеска, а пробор был прямым и прозрачным, как ость пера.
Но Бруно утратил способность читать по ее глазам, что всерьез беспокоило его.
– Тебе хорошо там? – озабоченно вопрошал он, хотя раньше не требовалось никаких вопросов.
Джентилия в ответ лишь пожимала ему руку, которую неизменно держала в ладони, и показывала свою вышивку, что-то негромко напевая себе под нос.
Спустя два года Бруно вернулся в Венецию и стал работать в типографии Иоганна и Венделина фон Шпейеров. Он трудился усердно, жил скромно, общался исключительно с писцами и другими авторами и редакторами; при первой же возможности он ездил на лодке на Сант-Анджело ди Конторта, чтобы повидаться с Джентилией. Это была унылая и строгая жизнь, аскетическая в старинном понимании этого слова, сосредоточенная исключительно на письменном слове, причем слове ушедших веков.
Он жил в относительной бедности, занимая две комнатки над красильной мастерской в районе Дорсодуро. По деревянному полу день и ночь ползали слизняки, оставляя липкие следы. По утрам он приучился осторожно опускать с кровати ногу, ощупывая пол пальцами, прежде чем встать на него всей ступней, чтобы не ощутить мокрый хруст под ногой, вызывавший у него омерзение.
В его комнаты вел отдельный вход, чему он был очень рад. В отличие от большинства жильцов, ему не требовалось проходить сквозь строй любопытных соседских глаз, чтобы попасть к себе в квартиру. Узкая лесенка поднималась прямо с улицы в жилое помещение, принадлежавшее ему одному.
Хотя не совсем одному. У него жили два домашних воробья. Он купил их сразу после того, как впервые услышал знаменитую поэму о воробьях Катулла, загадочного римского поэта, чьи работы читали только избранные ученые, имеющие доступ к дюжине сохранившихся рукописей. Но захватывающие и очаровательные поэмы обретали известность, передаваясь из уст в уста. Бруно сумел запомнить поэму о воробьях с первого раза, после того как услышал ее в таверне от одного писца. По случайному совпадению в тот же день на рынке Риальто он увидел в клетке двух маленьких птичек среди щебечущей какофонии прочих пернатых. Они жались друг к другу и дышали в такт, словно две половинки одного сердца. Он принес их домой в кармане.
Под заботливой опекой Бруно воробышки ожили и расцвели. В мае того же года они подарили ему пять крохотных яичек пепельно-голубого цвета с коричневыми пятнышками. Он счел это добрым знаком.
Шла весна 1469 года, и в трещинах тротуарных плит пробивались крошечные маргаритки. Бруно исполнилось восемнадцать лет, и Венеция раскрывала ему свои возможности, как любому молодому человеку его талантов и наклонностей.
Глава пятая
…Но что женщина в страсти любовнику шепчет, В воздухе и на воде быстротекущей пиши!
Каждый год Венеция сочеталась браком с морем. В июне неизменно проходила церемония Sposalizio [26], когда дож выплывал в лагуну и ронял золотое кольцо в ее молчаливые и податливые глубины.
Взамен море приносило приданое: торговую империю. Оно поставляло берберийский воск и квасцовый камень из Константинополя, меха, янтарь, смолу и пеньку из России, лошадей и пшеницу из Крыма, скобяные изделия и тетивы для луков из Брюгге, бумажную пряжу из Дамаска, черную патоку и засахаренные фрукты из Мессины, кошениль [27] из Корона, борное мыло, камфару, гуммиарабик, мелкий неровный жемчуг и слоновьи бивни из Александрии и Алеппо, смородину из Патры. Не было на свете невесты с более богатым приданым. Брак просто обязан был оказаться удачным.
На протяжении многих лет море не допускало никого, кроме венецианцев, к богатым торговым маршрутам в Индию, отбивая все поползновения ее соперницы Генуи.
– Или Венеция, или никто, – гордо говорило море, – даже если сам Господь станет докучать мне просьбами.
Впрочем, так бывает всегда в первые дни бурной страсти!
Со стороны брак казался крепким и успешным, даже взаимовыгодным. И никто не догадывался о том, что обстоятельства меняются к худшему.
Потому что в последнее время море начало строить глазки другим, прислушиваясь к льстивым уговорам испанских и португальских купцов и даже к гортанному говору англичан и голландцев. Турки силой вернули себе Константинополь в 1453 году и уже принялись потихоньку отгрызать, причем в не слишком ласковой и дружелюбной манере, окраины венецианской империи. Албания, Эгейский архипелаг и Кипр начали склоняться перед османским владычеством.
Разумеется, как бывает всегда, у моря были свои причины проявлять неверность.
Подобно любой избалованной супруге, Венеция позволяла себе пренебрегать своим партнером – морем. Городские вельможные купцы настолько обленились, прозябая в неге и роскоши, что едва могли заставить себя оторваться от своих обитых бархатом гондол, чтобы перейти на борт рабочей галеры. Их редко можно было увидеть торгующими на мосту Риальто, поскольку занятие сие они перепоручили предприимчивым представителям среднего класса. В долгие океанские вояжи они отправляли не своих сыновей, а деньги: они охладели к морю. Да и сама Венеция не отличалась особенной верностью по отношению к партнеру. Вступив в брачный союз с водой, Венеция так никогда и не расставалась окончательно с планами покорения суши. На протяжении четырнадцатого и пятнадцатого веков продолжалась вражда и плелись изощренные интриги. Феррара, Пиза и остатки старого королевства Неаполя уже попались на глаза Венеции, хотя и не стали пока ее сателлитами. Венеция еще не отваживалась на открытую измену, но уже склонялась к ней.
Связанные узами длительного и давнего брачного союза, Венеция и море все еще вели себя, как пожилые супруги, проведшие вместе всю жизнь. Они лениво или рассеянно приглядывали друг за другом. В определенном смысле маленькие измены лишь разжигали пламя ревности, которая пришла на смену прежней пылкой страсти. Они ссорились и волновались из‑за пустяков, потеряли уважение, и лишь время от времени им еще удавалось удивлять друг друга. Они стали привозить друг другу трофеи.
Они свели вместе Сосию Симеон и Бруно Угуччионе, которые встретились на воде, как бывает в доброй половине случаев в Венеции, когда происходит столкновение умов, тел или душ. То, что это случилось во время снежной бури, можно, пожалуй, расценивать как первое легкое предупреждение, сделанное им морем и городом относительно того, чем все может закончиться.
Холодным утром 7 марта 1469 года traghetto [28] отправился в свой обычный путь от Сан-Тома к Сант-Анджело: именно здесь и встретились взглядами две пары глаз, одни – желто-зеленые, другие – светло-карие, выделяющиеся на бледных лицах подобно набухшим почкам на тонких стеблях. В те дни венецианцы, ремесленники и купцы одинаково одевались в черное круглый год. И лишь сенаторы, наподобие Николо Малипьеро, отдавали предпочтение красному цвету. Любопытный эффект черного облачения заключался в том, что оно придавало любому лицу дополнительную выразительность. Поскольку одежда превратилась фактически в униформу, индивидуальность черт каждого человека буквально бросалась в глаза.

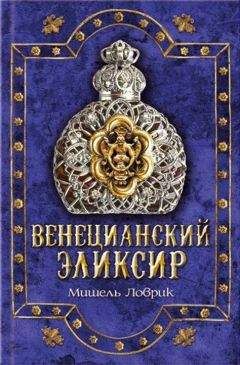
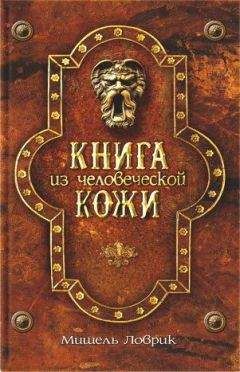
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)