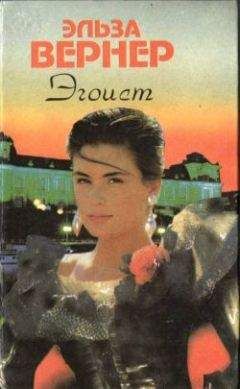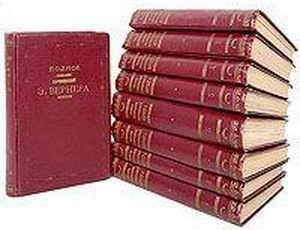Дорогой ценой - Вернер Эльза (Элизабет)
Он опять снисходительно улыбнулся, что всегда приводило Габриэль в совершенное отчаяние. Выражение «дитя», естественно, не исправило дела. Глубоко оскорбленная в своем семнадцатилетнем достоинстве, она предпочла вовсе не отвечать и удовольствовалась возмущенным взглядом на опекуна.
– У тебя такой вид, как будто уничтожение фонтана – личное оскорбление для тебя, – сказал барон. – Мне кажется, ты все еще питаешь уважение к россказням нянюшек и боишься призрачных ундин.
– Я хотела бы, чтобы ундины отомстили за эту насмешку и за угрозу уничтожить их! – воскликнула Габриэль довольно раздраженным тоном. – Меня, понятно, не коснулась бы их месть.
– Кого же, по-твоему? Меня? Успокойся, мое дитя, их месть может грозить лишь поэтическим натурам! По отношению ко мне все очарование ундин было бы бесполезно.
Они стояли возле самого фонтана. Вода журчала, с однообразным звуком падая из раковины в бассейн.
Вдруг дуновение ветра отклонило струю, и тысячи сверкающих брызг обдали душем барона и Габриэль. Девушка с легким криком отскочила, барон спокойно остался стоять на месте.
– Нам попало обоим, – сказал он. – Твои ундины, по-видимому, очень неразборчивы. Они адресуют свои влажные объятия как врагу, так и другу.
Габриэль подбежала к скамейке и стала носовым платком смахивать водяные капли с платья. Насмешка барона чрезвычайно рассердила ее, тем более что она не нашлась, что на нее ответить. Всякому другому она в свою очередь ответила бы насмешкой, но здесь не могла. Шутки барона всегда скрывали в себе сарказм, в его улыбке не было и следа веселости, и только злая ирония на мгновение прогоняла с его лица обычное серьезное выражение.
Барон быстрым движением стряхнул с сюртука водяные капли и тоже подошел к скамейке, на которой сидела девушка.
– Мне очень жаль, – продолжал он, – что приходится лишить тебя твоего излюбленного места, но приговор над фонтаном уже произнесен. Тебе придется примириться с этим.
Габриэль бросила взгляд на фонтан, мечтательное журчание которого с первых же дней очаровало ее какой-то таинственной прелестью, и почти со слезами сказала:
– Да, я знаю, ты никогда не спрашиваешь о том, не причиняют ли твои приказания кому-нибудь горе, и потому просить тебя совершенно бесполезно.
– В самом деле? Ты уже знаешь это? – иронически спросил Равен.
– Да. Поэтому никто и не просит тебя ни о чем. Все боятся тебя… все, все – и слуги, и чиновники, и даже мама, и только я…
– А ты не боишься меня?
– Нет!
Слово прозвучало очень твердо и решительно в устах девушки. Она снова была в воинственном настроении и твердо решила рассердить опекуна; однако напрасно – он оставался совершенно спокойным.
– Счастье, что твоей матери нет здесь, – заметил он. – Она испытала бы смертельный страх за дерзкую девочку, которая не считает нужным покориться, что она сама делает с большим самоотречением. Тебе следовало бы взять с нее пример.
– Да, мама – сама покорность по отношению к тебе, – воскликнула Габриэль, все более и более волнуясь, – и требует того же от меня. Но я не хочу лицемерить, а любить тебя я не могу, дядя Арно, потому что ты не добр по отношению к нам и никогда не был добрым. Первый же твой прием был так унизителен, что я готова была тотчас же уехать от тебя, и с тех пор ежедневно, ежечасно, ежеминутно ты стараешься дать нам почувствовать, что мы зависим от тебя. Ты обращаешься к маме с таким пренебрежением, что очень часто заставляешь краснеть меня. С тем же пренебрежением ты говоришь и о моем отце, который уже в могиле и не может защищаться, а со мной обращаешься как с игрушкой, с которой вообще не стоит считаться.
Ты взял нас к себе, и мы живем в твоем замке, где все гораздо богаче и роскошнее, чем было в доме моих родителей. Но я охотнее оставалась бы сейчас в нашем швейцарском изгнании, как мама называет нашу маленькую дачу на озере, где все было просто и скромно, и где мы едва ли имели все необходимое, но зато были свободны от тебя и твоей тирании. Мама требует, чтобы я терпеливо сносила ее, потому что ты богат и от тебя зависит моя будущность, но я не желаю твоего состояния. Мне нет дела до того, кого ты назначил своими наследниками. Я хочу лишь уехать отсюда, и чем скорее, тем лучше.
Габриэль вскочила и стояла перед Равеном в страстном возбуждении, энергично выдвинув вперед свою маленькую ножку, с глазами, полными слез от гнева и обиды. Однако в этой бурной вспышке было нечто большее, чем упрямство своенравного ребенка. Каждое слово девушки выдавало оскорбленное достоинство, душевную обиду, и слишком много правды звучало в обвинении, смело брошенном ею в лицо опекуну.
Равен не прерывал ее ни единым словом. Он лишь пристально смотрел на нее и, когда она смолкла, а из ее глаз хлынул поток слез, он вдруг склонился к ней и с глубокой серьезностью в голосе произнес:
– Не плачь, Габриэль! По отношению к тебе я не был несправедлив.
Габриэль перестала плакать. Опомнившись, она ясно представила себе всю неосторожность своих слов. Она ожидала взрыва гнева, и вдруг вместо него это непонятное спокойствие; молча, почти робко, она потупилась.
– Итак, ты «не желаешь моего состояния», – продолжал барон. – Откуда же тебе вообще известно, кого я намерен назначить своим наследником? Я никогда не говорил тебе об этом, и, значит, относительно этого предмета у тебя были беседы с твоей матерью.
Молодая девушка вся так и вспыхнула.
– Не знаю… мы никогда…
– Не пытайся отрицать, дитя мое, – прервал ее Равен. – Ложь так же не свойственна тебе, как и расчетливость, иначе ты не вела бы себя так со мной. Я не сержусь на тебя за это; я могу простить тебе твое упрямство, но никогда не простил бы расчета и лицемерия в твои семнадцать лет. Слава Богу, воспитание еще не так испортило тебя, как я предполагал.
Как будто ничего не произошло, барон спокойно взял ее за руку, притянул к скамейке и сам сел рядом. Габриэль слегка отодвинулась.
– Что же, ты предлагаешь мне считать войну объявленной? – сказал барон. – Твоя мать, конечно, не примет в ней участия, по крайней мере открыто. Она, во всяком случае, внушает тебе необходимость быть в высшей степени любезной по отношению к «выскочке».
– Зачем ты так говоришь? – смущенно пробормотала девушка.
– Ну, это не может быть тебе неизвестно. Насколько я знаю, только так величали мою особу в доме твоих родителей.
На сей раз Габриэль смело выдержала взгляд барона.
– Я знаю, что мои родители не любили тебя, но ведь и ты всегда враждебно держался по отношению к ним.
– Я ли по отношению к ним, или они по отношению ко мне – в конце концов это все равно. Есть вещи, о которых ты еще не в состоянии судить, Габриэль. Ты не имеешь понятия о том, что значит с таким положением, какое когда-то было у меня, вступить в аристократическую семью и ее общество. У меня там был один единственный друг – твой дедушка. У всех остальных я еще должен был завоевать себе место, а для этого существуют лишь два пути: либо, делая вид, что высоко ценишь честь, которой тебя удостоили, терпеливо склоняться перед всеми унижениями, в изобилии сыплющимися на голову выскочки, и довольствоваться тем, чтобы быть терпимым, – а все это не в моем характере; либо стать во главе всего общества, дать почувствовать, что есть еще иная сила, кроме родословных, и при каждом удобном случае попирать ногами предрассудки представителей «общества». Таким образом заставляют преклоняться их самих. Вообще покорять людей гораздо легче, чем думают. Нужно только уметь импонировать им, в этом заключается вся тайна успеха.
Габриэль покачала головой и, как бы про себя, тихо промолвила:
– Суровые принципы!
– Это – опыт тридцати лет, на которые я старше тебя. Неужели, по-твоему, у меня так никогда и не было идеалов, мечтаний и одушевления? Не было пылких переживаний юности? Но со вступлением в жизнь всему этому наступает конец. В такую жизнь, как моя, не берут с собой мечтаний. Они приковывают к земле, а я хотел вознестись – и вознесся. Правда, я дорого заплатил за это, пожалуй, даже слишком дорого, но все равно достиг своего.