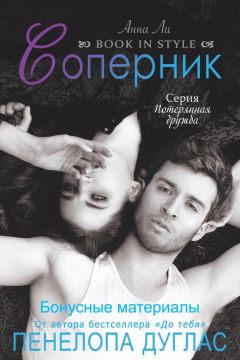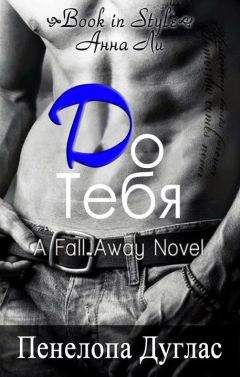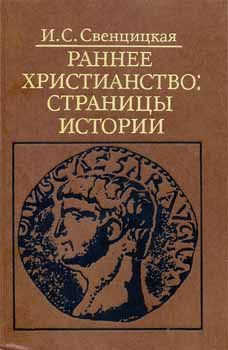Невыносимая шестерка Тристы (ЛП) - Дуглас Пенелопа
Слезы подступают к глазам, когда я смотрю вниз на его худые руки.
— Он, эмм…
— Как Генри, — говорит она, понимая, что я увидела. Цвет другой, но они примерно одного возраста. Ему тоже десять или одиннадцать лет.
— Что с ним произошло? — я все еще осматриваю мальчика, но не нахожу никаких следов насилия.
— Утонул, — отвечает она. — Он плавал в заливе Мурто. И его унесло течением.
В этом нет ничего нового. Во Флориде мы много плаваем. И люди здесь иногда тонут.
Самое ужасное в том, что это не быстрая смерть. С каждой прошедшей секундой он осознавал, что помощь не придет.
Прямо как Генри.
— Его брат целовался со своей девушкой в машине и ничего не замечал в течение десяти минут, — хрипло шепчет она.
Мне его тоже немного жаль. Ошибка, которая будет вечно преследовать его.
А я здесь. Живая. Здоровая. Постоянно усугубляю проблемы, потому что веду себя так, будто ничего не понимаю.
Я приглаживаю его волосы, на мгновение забывая обо всем, что произошло дома, потому что где-то там, в городе, одна безутешная семья больше никогда не увидит улыбку своего сына.
Делаю глубокий вдох и проглатываю подступающие слезы, когда поднимаю глаза на миссис Гейтс.
— Бальзамирование?
— Да, — отвечает она. — В четверг будет прощание, а следом кремация.
Кивнув, снимаю с запястья резинку и собираю волосы в хвост.
— Я все подготовлю.
Следующие два часа мы работаем молча, миссис Гейтс лишь иногда дает необходимые инструкции. Я не могу смотреть ему в лицо, в меня словно вонзаются иглы, и я чувствую, как поднимается желчь, потому что трудно не видеть Генри на этом столе. Мы готовим мальчика к тому, чтобы он оставался в сохранности до похорон, и я вернусь через пару дней, чтобы позаботиться о макияже и одежде, но сейчас процесс бальзамирования занимает больше времени: я как будто делаю это в первый раз. Что для нас с Генри оказалось важнее всего, так это то, что миссис Гейтс была нежна с моим братом. И с этим ребенком я обращаюсь особенно аккуратно.
— Я когда-нибудь рассказывала тебе, что некоторое время прожила в Нью-Йорке? — произносит миссис Гейтс, стоя у противоположной стороны стола.
Я встречаюсь с ней взглядом, не отвлекаясь при этом от работы.
— Мне нравилось там, — она слегка улыбается. — Слишком холодно, но очень весело. Я училась там, чтобы стать директором похоронного бюро.
Думаю, я знала это, но не уверена.
Она выключает прибор.
— Там лучше всего учат похоронному делу.
Похоронному делу?
— Я могу помочь поступить тебе, — добавляет она. — Если захочешь.
Я останавливаюсь и смотрю на нее. Моя первая реакция — смех или фырканье. Я не могу говорить людям, что я сотрудник похоронного бюро. Это не романтично, как, например, актриса или художница, и не по-геройски, как юрист или доктор.
Но, с другой стороны, большинство людей тоже не видели того, чему я стала здесь свидетелем. Миссис Гейтс находится тут в один из самых важных моментов в жизни человека.
— У тебя крепкий желудок, — объясняет она. — Ты сопереживаешь. Ты заботишься. Я считаю, что лучшие люди, которые помогут нам попрощаться, это те, кому пришлось сделать это самим.
Я продолжаю работать и слушать ее.
— Ты понимаешь, что нужно этим семьям. — Она кладет инструмент на поднос и достает другой. — В конце концов, похороны не для мертвых.
Они для живых.
Это нелепо. Все будут смеяться.
Бабушка рассердится.
Но потом я гляжу на ребенка, Митчелла Хиггинса, как сказано в его деле, и осознаю, что завтра на его месте могу оказаться я.
Если не завтра, то на следующей неделе. В следующем году. Через пять лет, потому что неважно когда, но это все равно произойдет.
— Я знаю, родители хотят, чтобы ты поступила в Уэйк-Форест, — добавляет миссис Гейтс, — но, если ты решишь, что твоя жизнь должна пойти по другой дороге, я проспонсирую тебя.
Проспонсирует меня?
— Ты будешь работать здесь на каникулах и в течение двух лет после окончания учебы, — объясняет она, — а я заплачу за твое обучение.
Двадцать
восемь
Клэй
Нью-Йорк. Почему мысль о том, что я буду недалеко от Лив, делает меня такой счастливой? Я не могу следовать за ней. Я бросила ее, у меня не получится двигаться дальше, если мы будем находиться так близко друг к другу.
И что еще хуже: жить так близко и знать, что она двигается дальше, будет невыносимо.
Я не могу переехать в Нью-Йорк. На самом деле, Уэйк-Форест — идеальный вариант. Одинаковое расстояние и до нее, и до дома. Мне следует оставить ее в покое. Как Лив и просила меня несколько недель назад.
Проходя по подъездной дорожке, вижу огни, светящиеся внутри дома, и уже представляю, как мама сидит за столом и ждет меня.
Не столько потому, что она волнуется, как мог бы волноваться любой другой родитель, ведь я оставила свой телефон у себя комнате несколько часов назад и она не могла дозвониться до меня, а потому, что неправильно ложиться спать, когда твоя сердитая дочь-подросток где-то пропадает так поздно.
Я захожу в дом и закрываю за собой дверь, часы показывают час ночи.
Как обычно, поднимаюсь по лестнице и пытаюсь спрятаться в своей комнате, чтобы избежать встречи с мамой, но сейчас я ловлю себя на мысли, что прислушиваюсь к тишине дома.
Не слышно ни звука.
Я проверяю комнаты, но не нахожу ее, теперь я намного спокойнее, чем несколько часов назад.
Они не всегда были такими. Я все время забываю об этом. Когда мой брат был еще жив, мы на самом деле были довольно счастливы. Мои родители теперь часто разочаровывают меня, но, вспоминая родителей, которых знал Генри, я скучаю по ним.
Сорванные со стены фотографии валяются на мраморном полу, рядом с ними лежит разбитая ваза с розами в луже воды.
Я поднимаюсь по лестнице и вижу на полу расколотые рамки со свадебными фотографиями, а также следы разрушений, которые учинила до того, как убежала. Я нахожу маму в ее гардеробной, повсюду разбросаны платья, туфли и блузки, она же сидит, прислонившись спиной к комоду в центре комнаты, и держит большую бутылку из-под воды между согнутыми ногами.
Мама встречается со мной взглядом, и на мгновение я замираю.
Она сейчас так похожа на меня.
Неуверенная. Опустошенная. Слишком много чувств, и нет возможности выразить их словами.
Молодая.
Она одета только в кремовые шелковые трусики и белый кашемировый свитер, волосы растрепаны, а вокруг глаз — черные круги от слез.
Не обычный шедевр, которым она была последние несколько лет.
Мама поднимает почти пустую бутылку воды, и я замечаю еще одну пустую, лежащую среди одежды.
— Думала, шампанское поможет найти ответ, но…
— Углеводы никогда не являются решением проблемы, — цитирую я наш девиз.
Подойдя к ней, сажусь рядом и опираюсь спиной на шкаф.
— Я все еще ищу его, — вздыхает она. — Так что не мешай.
И затем допивает оставшееся шампанское.
Я не отвожу от нее взгляд, задаваясь вопросом, думала ли она, что такое может произойти. Когда покупала свадебное платье или когда они приобрели этот дом, знала ли мама, что нет никаких гарантий? Что однажды она прервет беременность, потому что у нее не останется сил растить еще одного ребенка, любить его так же сильно и, возможно, потом потерять? Что муж бросит ее, из-за разбитого сердца причинив боль своей семье? Что от обрушившегося на нее горя мама причинит боль самой себе?
Она отводит взгляд.
— Я не знаю, как она делала это, Клэй, — говорит мама. — Годами я пыталась разгадать секрет бабушки.
Я молча слушаю.
— В детстве я просыпалась на следующий день после Дня Благодарения, — продолжает она, — и дом уже был полностью украшен к Рождеству. Я засыпала в день нового года, а когда просыпалась, все уже исчезало, — она улыбается самой себе. — Это походило на настоящее волшебство, бабушка все делала так, словно где-то припрятала волшебную палочку, и ей никогда не нужно было спать.