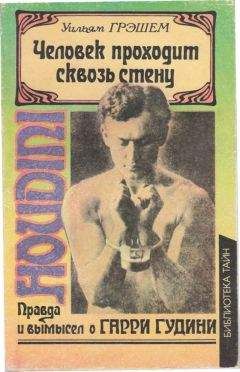Анита Шрив - Их последняя встреча
Рядом с ней молодая пара рассуждала по поводу известного молчания.
— Его дочь утонула в море.
— Боже. Подумать только!
— Ее смыло за борт. Ей было всего пять лет. Или шесть.
— О Господи!
— Говорят, после этого у него случилось нервное расстройство.
— Ничего удивительного.
Приглушили свет, и вступительное слово было предоставлено какому-то ученому. Тот упомянул об изгнании, но не назвал его причин. Вступление было не вполне объективным по отношению к Томасу, хотя в нем говорилось о выдающемся успехе, о том, что он достоин почитания, даже если много лет не писал новых произведений. От света прожектора на лицо ученого падали уродливые тени. Вскоре Линде тоже придется стоять там.
Когда из-за занавеса появился Томас, над зрителями, как облако, повисла тишина. Томас двигался уверенно, стараясь не смотреть на сотни лиц. Подойдя к подиуму, он взял стакан с водой, и она заметила — надеясь, что этого не видят другие, — как дрожит его рука. За ее спиной кто-то сказал: «Боже, как он постарел». Подобные слова (такова власть слова) подкашивали даже самых выдающихся.
Поначалу Томас говорил ужасно невнятно, на его шее и за ушами появился трогательный румянец. Он выглядел неподготовленным. В нарастающей тишине он перелистывал страницы указательным пальцем, и бумага шелестела и трещала, как луковая шелуха. Линда слышала удивленное бормотание аудитории, легкие вздохи разочарования. Шелест страниц не прекращался. И наконец, когда она решила, что больше не вынесет этого, наклонила голову и прижала пальцы к глазам, Томас начал читать.
Голос его был низкий и звучный, не измененный годами, в отличие от его лица. Это был голос, которым провозглашают лозунги, голос, который мог принадлежать оперному басу. Зрители затаили дыхание, чтобы не пропустить ни слова. Линда напряглась, стараясь вникнуть в удивительные фразы, затем покатилась по склону образов, которые были странно привлекательными, хотя их ужасного смысла невозможно было не понять: «Шелк воды», читал он, «Песчаное ложе». «Согнулась мать — растоптанный стебель». У Линды руки стали холодными и покрылись мурашками. Она забыла об аудитории. Трудно было поверить в это слияние заслуженного возмездия и безумного горя. Она знала, как никогда до того — как, без сомнения, не знали окружавшие ее люди, — что присутствует при свершении чего-то великого.
Он читал из сборника «Стихи Магдалины». Несколько стихотворений о девушке, которая не стала женщиной. Элегия о жизни, которая не была прожита.
Томас остановился и снова выпил воды. Послышался звук — это сотни слушателей, прижав руки к груди, выдохнули: «О…» Последовавшие аплодисменты были подобны буре. Томас поднял глаза и, казалось, удивился такой реакции. Он не улыбнулся ни себе, ни аудитории, и Линда почувствовала необъяснимое облегчение: Томаса не так-то просто соблазнить.
Прозвучавшие после чтения вопросы были стандартными (один из них, о его виновности, был просто возмутительным). Томас послушно отвечал; к счастью, он не был бездумно болтлив. Линда не знала, смогла бы она его слушать, будь он таким. Он выглядел обессиленным, его лоб блестел — белый от настоящей схватки на сцене.
Вопросы прекратились — по чьему-то таинственному сигналу, — и зал взорвался аплодисментами, которые отдавались даже в подлокотниках кресел. Некоторые встали, как на спектакле. Не умевший принимать похвалу, непривыкший к ней, Томас покинул сцену.
Они могли бы встретиться за кулисами и обняться, охваченные взаимным порывом. Возможно, он будет ждать ее, будет разочарован ее отсутствием. Но тут она увидела его в вестибюле, окруженного восторженными поклонниками, отвлеченного на время от мучительных мыслей, и подумала: я не буду участвовать в соревновании за его внимание.
Почувствовав, что ей не хватает воздуха, Линда вышла в ночь. Люди стояли группами, скорее оживленные, чем подавленные. Она не собиралась прислушиваться, но не могла не услышать слов «потрясающе» и «блестяще», хотя одна женщина возмущалась тем, что поэт обратил смерть дочери себе на пользу. «Приспособленчество», — услышала Линда, и еще: «Насилие над жизнью других людей». Мужчина отвечал пренебрежительно. «Дана, это называется искусством», — сказал он, и Линда сразу поняла, что они женаты.
Она обошла квартал — ей это было необходимо после всего, что произошло в театре. Моросящий дождь заметно усилился, и прежде чем она успела вернуться, ее волосы и одежда промокли. Она вошла в боковой зал и послушала, как женщина из Руанды подробно перечисляла какие-то зверства, совершаемые в ее стране. Линда сидела, окоченевшая от холода, почти бесчувственная, пока не подошло ее время выступать.
Ее отвели за кулисы, где, словно змеи, клубились катушки электрических кабелей. Ее глаза не могли достаточно быстро приспособиться к темноте, и она казалась беспомощной и растерянной. Рядом с ней возник Сизек — Линду заранее известил об этом запах перегара. Сизек властно положил руку ей на спину, провел вниз по позвоночнику — то ли подбадривая ее, то ли выражая какое-то мужское покровительство. Их повели, щурящихся от яркого света, на сцену. Они уселись по обе стороны от подиума. Проигнорировав приличия, Сизек, пошатываясь, первым направился к подиуму. Он был настолько пьян, что с трудом стоял на ногах, но выступление его было безукоризненным — факт более примечательный, чем его проза, которая казалась какой- то жидкой, словно автор, подгоняемый сроками, разбавлял главы ради объема.
Раздались вежливые аплодисменты. Когда Сизек закончил, некоторые стали уходить (утомленные выступлением Сизека? не любившие поэзию? не интересующиеся выступлением Линды Фэллон?); аудитория пустела. Направляясь к подиуму, она усилием воли старалась преодолеть скованность, и к тому времени, когда ей удалось отрегулировать микрофон, она заметила, что Томаса в зале нет. Линда начала читать свои стихи, произносить слова, которыми она имела некоторое основание гордиться, — слова, которые, хотя и не были уже для нее чем-то новым, свежим, но подбирались любовно и тщательно. Однако по мере того, как она читала, ее мысли начали уплывать в сторону, и она подумала о предложении Томаса воплотить свои образы в прозе. Она заметила, что, пока произносит слова, в уме уже составляет предложения, и, когда какое-нибудь неожиданное слово встряхивало ее, выводя из состояния мечтательности, Линда чувствовала испуг, словно ее сбили с ног.
Аплодисменты были довольно громкими — аудитории подняли настроение, пообещав отпустить по домам или в рестораны. Потом последовали вопросы, один из которых странным образом напомнил унылые сетования женщины, считавшей использование истории жизни других ради искусства приспособленчеством (Линда не могла понять, почему это так раздражает, ведь речь шла не о ее жизни). В очереди за книгами Линды в холле стояло не более двадцати человек, но она была благодарна и за двадцать. Она задержалась дольше, чем следовало, ожидая, не появится ли Томас к ужину, но не настолько долго, чтобы выглядеть глупо, если он все же придет. Выйдя из театра, она пошла в ночь и остановилась, глядя на белую полоску на небосводе — это низкие облака выхватили свет большого города.