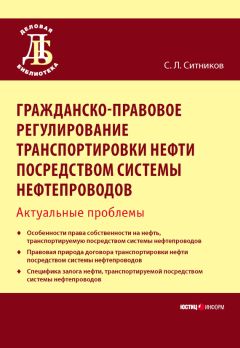Секунда между нами - Стил Эмма
Ради меня она отказалась от другой жизни.
Когда у меня в голове снова начинает стучать, я смотрю вниз и вижу на земле ярко-красный лепесток от пуансеттии, которую я ей подарил. «Это рождественская звезда», – скажет Дженн, прежде чем водрузить горшок на кухонный подоконник.
То было незабываемое Рождество.
Эта мысль обожгла меня.
О боже!
Нет… нет… нет…
Шесть
В небе взрываются красные искры. Фейерверки.
Снова темнота. Пронизывающий холод.
Я в кромешной темноте, если не считать огромного костра впереди.
Оттуда доносятся гудение и треск, языки пламени поднимаются в ночное небо, и запах дыма проникает в мой нос.
Снова эта пульсация в голове. Я прижимаю ладони к вискам.
И вдруг страшная мысль волной обрушивается на меня.
Вся жизнь проносится перед ее глазами.
Из моей груди вырывается стон, грудь пронзает такая боль, словно кто-то с силой давит на нее. Все вдруг кажется каким-то сюрреалистичным. Этого просто не может быть.
Или может?
Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне: может.
Наверное, грузовик занесло на льду и он выехал прямо на нашу полосу. Она увидела, что он несется прямо на нее, и решила, что сейчас умрет. И теперь вновь проживает моменты своей жизни. Черт! Я слышал о таких вещах – это называется «околосмертные переживания». Околосмертный опыт.
Да, точно.
Но почему я тоже вижу все это?
Вот дерьмо…
Я пытаюсь выровнять дыхание.
Надо остановить это. Если получится разбудить Дженн и вытащить нас из ее воспоминаний, то, может, я смогу перестроиться вправо, на другую полосу. Влево нельзя – там бордюр, стена, а дальше дома – верная смерть.
Но если мы застряли где-то между временами, откуда мне знать, что все может вернуться на круги своя? Откуда мне знать, возможно ли вообще что-то изменить?
У меня кружится голова, подкатывает тошнота.
Нужно найти ее, срочно.
Я пробираюсь вперед, то и дело спотыкаясь. Повсюду дети и взрослые, все носятся туда-сюда, кричат, визжат. Снова звук взрыва за спиной. Я резко оборачиваюсь и смотрю вверх: по ночному небу на мелкие кусочки разлетается синий фейерверк. Кажется, я попал на школьную Ночь костров. Мимо меня проходят подростки в камзолах и шляпах. Но их лица размыты. Что за ерунда? По спине пробегают мурашки. Я смотрю на взрослых, которые стоят в сторонке с пластиковыми стаканчиками в руках. То же самое.
Вспышка света – и чуть поодаль, в темноте, я замечаю фигурку с бенгальским огнем в руках. Девочка. Быстро пробираюсь сквозь толпу. Я знаю ее – это Дженн. И мое сердце переполняет радость.
Я бегу к ней со всех ног, становится трудно дышать. Она уже выше и старше той Дженн, которую я видел на кухне. На ней шерстяная шапочка с большим помпоном. Из-под теплого полупальто выглядывают длинные худые ноги. На вид ей лет тринадцать, как и другим подросткам. Она выглядит такой одинокой, замкнувшейся в себе.
Бенгальский огонь еще горит, но осталось уже меньше половины, и она не сводит с него глаз. Огонь как будто притягивает, гипнотизирует ее, она будто в трансе. Да что с ней такое?
– Дженн, – говорю я, хотя знаю, что это бессмысленно. Я ведь уже пробовал. – Дженн! – почти кричу я.
Она не двигается, не отрывает взгляд от огонька.
Подхожу ближе, кладу ладонь ей на плечо, чтобы она почувствовала мое прикосновение, но она даже не шевельнулась. Она не догадывается, что я здесь, рядом.
Я в ужасе. Меня бьет дрожь.
– Ты должна меня услышать, должна!
Огонь опускается все ниже и ниже, оставляя обугленную палочку, а на ней нет перчаток. Где ее родители? Почему она здесь одна?
Несмотря на ужас и панику, я начинаю кое-что понимать.
Должно быть, это происходило после того, как ушел ее отец.
Огонь добирается до самого низа и сердито трещит. Я не понимаю, что она делает? Ведь она может обжечься.
– Брось это, Дженн. – В моем голосе появляются металлические нотки, но она не поднимает головы, не слышит моих слов. Она просто смотрит на эту догорающую палочку. – Ну давай же. Брось это, Дженн. – Я пытаюсь снова и снова. Хочу встряхнуть ее, чтобы она оторвала взгляд от огонька и услышала меня.
Когда огонь с шипением доходит до самого конца, искры вспыхивают прямо над кончиками пальцев. Она начинает плакать, слезы заливают ее лицо. Прежде чем искры успевают обжечь ее кожу, я протягиваю руку к догорающей палочке.
И все вокруг погружается в темноту.
Шесть недель спустя
На елке беспорядочно мерцают гирлянды. Верхние светятся плавно, а нижние мельтешат как сумасшедшие, даже больно смотреть. Мама повесила гирлянду вчера, в сочельник, – это довольно поздно.
Папа всегда приносил и устанавливал елку в начале декабря. Они вместе, только он и Дженни, ходили в садовый центр, и она выбирала самую лучшую, самую высокую елку из всех – для гостиной с высокими потолками. И у дерева обязательно должно быть что-то особенное – кривая ветка или пятнистый ствол. Она не любит, когда все идеально. Дома они вместе украшают елку, потягивая горячий шоколад под рождественские песни, причем непременно старые. Самое чудесное время в году.
Она снова смотрит на часы – крупные, фиолетовые, папа подарил их в октябре, на ее тринадцатый день рождения. К горлу подступает ком. Только час дня, времени еще достаточно. Он придет. Он должен прийти на рождественский ужин.
На мгновение она перескакивает в тот день, когда он ушел – без записки, без предупреждения. Это было в сентябре, когда листья только начинали желтеть. В то утро она выбралась из теплой постели и опустила ноги на коврик из овечьей шерсти, – папа купил его у фермера на севере. Она была взволнована: наступила суббота, а в субботу они собирались на весь день отправиться в замок Кульцеан. Папа наверняка уже на кухне, готовит сэндвичи, а мама, скорее всего, еще нежится в постели перед началом нового дня. Спускаясь по лестнице, Дженни ожидает услышать привычные утренние звуки: шум чайника, позвякивание посуды.
Но, добравшись до последней ступеньки, она обнаружила, что в кухне тишина. Там никого нет. Она взглянула на старинные часы в коридоре. Сонные стрелки показывали восемь часов утра. Не может быть, чтобы он еще был в постели.
Она снова поднялась по лестнице, перескакивая через две ступеньки, и где-то в глубине ее души задребезжал тревожный звоночек. Она медленно приоткрыла дверь, чувствуя неловкость из-за того, что входит в спальню родителей, хотя уже не ребенок. Она скользнула взглядом по их кровати, куда в детстве забиралась каждое утро, – в этом сонном уголке было особенно уютно на рассвете.
Мама лежала с закрытыми глазами, подложив крепко прижатые друг к другу ладони под щеку, как ребенок, который притворяется спящим.
Но папы не было.
– Мам, – тихо позвала она.
Никакого движения. Веки у мамы были припухшие, словно она плакала всю ночь.
– Мама, – повторила Дженни уже громче и заметила какое-то движение. Мамины губы приоткрылись и сомкнулись, как у рыбки. Она хотела сказать что-то еще, но остановилась на полуслове. Потому что простыня на папиной стороне кровати была тщательно разглажена и подоткнута под подушку. Как будто он уже все заправил. И хотя Дженни понимала, что он мог быть в другой комнате или вообще выскочить за молоком, она содрогнулась от вида аккуратно заправленной кровати.
До нее вдруг доносится запах гари, и воспоминания рассеиваются. Дженни подскакивает, выбегает из гостиной и мчится по коридору на кухню. По радио играет «I wish it could be Christmas every day» [7], из кухни валит густой дым. Кашляя, она пробирается на кухню.
– Мама?
Она видит, как мама достает из духовки зеленый противень и с грохотом ставит его на край столешницы.