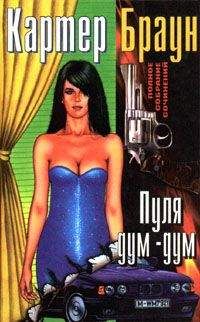Анна Михальская - Foxy. Год лисицы
Какова магия сильного чувства! Сила ее надежды, радость исполненного желания… Ну, ничего. Пока живем тут недельку-другую, сделаю вид, будто я пришел навеки поселиться, с деньгами-то, и думаю о том, что надо бы теперь мне подарить тебе этот дом… Потом я повезу тебя в Москву, а тем временем все спущу на тормозах, верну тебя домой, и вы с мужем поделитесь друг с другом чудесными историями: каждый – своей. У твоего интеллигентного похотливого слабака наверняка найдется что порассказать. Дело наверняка было, и оно наверняка уже в прошлом, – в этом Джим не сомневался, зная мужские возможности своих московских ровесников, физические и душевные. А теперь как не рассказать да не покаяться! Да, вот такой уровень откровенности. Американский? А что? Полезное с приятным. Отблеск пережитого так укрепляет брак! Огонь нужно поддерживать… Сильные чувства, когда от них остаются такие маленькие безопасные теплые угольки, – хорошее топливо. Как бензин, когда нужно сжечь старые вещи. Разница только в том, что брак от этого тихого дозированного пламени не сгорает – не то что вспыхнувшее барахло. Нет, словно Феникс из пепла, восстает… А мой Дом меня все еще ждет – в городе, где я родился. В Москве.
Мимо прошла девушка, чуть задев его внезапно качнувшимся бедром, и Джим явственно ощутил, что пока восстает нечто иное. Значит, все как надо. Все путем!
* * *В предрассветных сумерках уже не только трава, но и тропы скованы холодом. Все серебрится от инея, и туман не спешит рассеиваться.
Я выхожу после сна, полного запахами горячей поры, далекими звуками звенящего лисьего взлая, взглядами узких янтарно-зеленых глаз, близким дыханием… Что – сон, что – явь? Проснувшись, не сразу поймешь.
Но что тут понимать? Горячее, живое – всегда сон… Холодное, пустое – это явь. Жизнь. Моя жизнь. Теперь так.
После охоты я сажусь у норы. Жду. Смотрю, как проносятся мимо грохочущие гончие моих одиноких дум – всегда по своим блестящим тропам, не сворачивая, в вечной погоне – за кем? За чем? Ни разу не видела, как что-то поймали эти скрежещущие и воющие охотники. Где их добыча?
Может быть, увижу со своего высокого камня? Я легко вспрыгиваю на бетонную опору и смотрю. Видно далеко, но поезд уже скрылся за лесом.
Восходит солнце. Я смотрю, как поднимается из-за оврага, над соснами, красный круг, как малиновое пламя загорается алым, потом зеленым и золотым и, добела накалившись, взмывает вверх, в небо, словно голубь из голубятни.
А я все жду.
Пусто. В черных елях у насыпи перекликаются сойки – новый выводок, яркие, молодые, глупые. В березовой роще среди белых стволов мелькают черно-белые сороки, такие же молодые и глупые, как сойки. Увидев меня, стрекочут – бессмысленные трещотки… В ушах звенит непрестанный синичий писк. Скучно…
Высоко надо мной пролетает, переговариваясь, пара воронов. Двое, их двое…
Никогда, – говорят вороны друг другу.
А я все равно жду. Жду и сама знаю: никогда.
Хоть бы собака, чтоб испугаться, бежать, прятаться, путать след, нестись так, чтоб колотилось сердце, а хвост вился позади гордым флагом, чтобы лететь со всех ног, чтобы забыть, забыть…
Только не ждать.
Да хоть бы – охотник.
Как я жду его, охотника. Вспышка, гром – и наконец покой. Скорей бы.
Как я устала ждать.
3. Феникс (ноябрь)
«В этот костер феникс радостно кидается и сгорает…»
Древняя восточная легендаЭто была моя вторая ночь с любимой за двадцать лет.
А по сути первая – ведь двадцать лет назад, в ту ночь, которую Лиза проплакала у меня на груди, то затихая, то вновь сотрясаясь от рыданий, я еще не знал, что это плачет моя любимая. И единственная – та, что была, есть и пребудет. Нет, ничего этого я и подумать не мог. Молод был, и вся жизнь была впереди, и мнилось, что с настоящей моей любовью я разделен навсегда – океаном и «железным занавесом», но кто знает, все может быть, а вдруг…
Мне только странно было тогда, что я никак не могу успокоить эту непостижимую рыжую женщину, и страшно – вот как, наверное, жены и матери оплакивают своих убитых. Я лежал на спине, смотрел в потолок старого дома, ветер беспокойно гремел листами железной крыши, а она распласталась у меня на груди, раскинув руки, словно птица – легкая, теплая, безутешная… Она оплакивала убитую мной любовь, а я терпеливо ждал, когда же все это кончится. И хвалил себя за то, что остался на всю ночь, чтобы помочь ей вынести мой удар. И гордился своим благородством. Наконец, под утро, когда она затихла, забылась, я ушел, тихо притворив за собой дверь. Я сделал для нее все, что мог, – так мне казалось.
Закрыл дверь за своей живой жизнью, шагнул в едва проснувшийся мир, не зная, что и жив-то буду, только пока согревает мою грудь живая вода ее слез. Затворил за собой ту дверь – и пролежал на земле в беспамятстве целых двадцать лет – будто мертвой водой сбрызнули, а живой не хватило.
И вот, двадцать лет спустя, пришла наша благая ночь, и вся она была – любовь, и моя исстрадавшаяся жертва, моя добыча, моя награда, моя рыжая лисица, щедрая и бесхитростная, снова плакала у меня на груди – тихо и счастливо. Ее слезы текли и согревали мне сердце, и я наконец ожил. И проснулся.
В окно светило бледное утро первого дня предзимья.
Мы смотрели вместе в окно, мы пили вино из одного стакана, а потом, как и полагается в начале каждого дня ХХI века, открыли почту.
Я получил несколько писем. Последнее я открыл с содроганием – оно было от Аликс. Тема – «Квартира».
Аликс писала по-английски. Наверное, чтобы быть точной. Далее, чтобы избежать неясностей, следовал русский текст.
«Я остаюсь на родине навсегда, – читал я, не веря глазам, – настал черед моей американской судьбы. Я обеспечу Лолу и возьму на себя все заботы о ней до ее совершеннолетия. Квартира в этом безобразном доме, где ты читаешь это письмо и где я провела с тобой почти восемнадцать несчастных лет, отныне твоя. Я устрою так, что бракоразводный процесс не потребует твоего приезда. Надеюсь, что и ты предпримешь аналогичные действия. Прошу тебя как можно скорее узнать необходимые детали официального оформления моих намерений в России и сообщить их мне. Прости. Александра».
Это была свобода.
* * *Incipit vita nova.[27]
Данте АлигьериКогда я в последний раз вошла в «Зону К», чтобы собрать вещи, в квартире никого не было. Я вошла в темноту коридора и, не раздеваясь, долго смотрела в зеркало. Оттуда глядело на меня незнакомое лицо. Такое я видела впервые. Ржавые пятнышки времени на оборотной стороне стекла, словно веснушки, россыпью покрывали часть правой щеки – или левой? Все остальное было новое. Но я не стала всматриваться: не хотелось оставаться дольше, чем нужно.