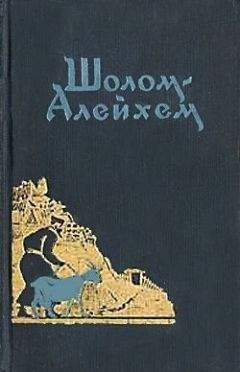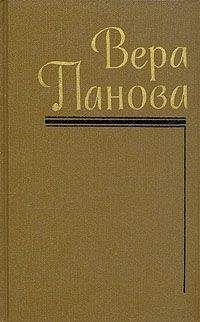Нелида Пиньон - Сладкая песнь Каэтаны
Полидоро попробовал сдержать напор.
– Стойте, где стоите. Поднимусь я. Мне нужна кафедра.
Он сменил тактику и теперь выступал в открытой оппозиции Каэтане: не хотел быть простым статистом, произносящим две-три фразы. Если театральные иллюзии заставили окаменеть сердце Каэтаны, сделали его неспособным к любовным переживаниям, то и он нуждается в такой же поддержке.
– Завтра будем репетировать! – крикнул Полидоро и, обернувшись к Каэтане, добавил: – Виржилио будет режиссером, я – его помощником. Если на премьеру не соберется публика, я сгоню в этот дерьмовый кинотеатр своих коров, у меня их хватает. Душа моя так же проста, как у вывезенного из Индии бычка-зебу.
Балиньо набрался мужества, поднялся на сцену, решив схватиться с Полидоро, размахивавшим предательским клинком, направленным против Каэтаны, дабы отплатить ей за свою любовную неудачу.
– Ты куда, парень? – остановил его за руку Полидоро.
Деспотизм Полидоро привел Каэтану в отчаяние.
– Не будем мы больше терпеть твои нелепые выходки, – заявила она, выходя к рампе.
Три Грации решительно встали на защиту своих позиций, выступили вперед. Поднялся всеобщий гвалт.
– Вы – диктатор, – запротестовал Балиньо, высвободив руку из цепких пальцев Полидоро.
– Ничего страшного в том, чтобы быть диктатором в стране, которая нуждается в порядке!
– Это противоречит воле богов, сеющих беспорядок, – храбро продолжал Балиньо, не обращая внимания на знаки, которые подавали ему Три Грации, призывая к согласию.
Виржилио обнял Полидоро, словно они были любовниками, охраняя его от надвигающейся бури.
– Спокойствие, дамы и господа. Во имя искусства предлагаю заключить перемирие.
Он выдержал паузу. Полидоро, ощущая тепло от тела учителя, слушал его со вниманием.
– Зачем препираться, если мы все живем для искусства, которое простерло над нами свою длань? И стоит ли проклинать диктаторов? Жетулио был диктатором, но народ его любил. Да и сам Медичи теперь, где бы ни появился, пожинает аплодисменты. От футбольных стадионов до Жокейского клуба в Рио-де-Жанейро.
Виржилио простер руку, Балиньо внимательно рассмотрел ее: тонкая, удивительно волосатая. И Себастьяна иной раз среди ласк дергала его за волосики на руке и ласково называла «мой павианчик». Балиньо так и оставил руку Виржилио висеть в воздухе бесконечно долго; заставляя учителя страдать, он хотел досадить Полидоро.
И вдруг Балиньо с самым любезным видом крепко схватил эту руку. Прокашлялся, как всегда, когда волновался.
– Не забудьте, что единственная артистка здесь – Каэтана. Только благодаря ей мы выходим на сцену и выступаем как актеры. Мы, грешные, не можем попасть на сцену без помощи настоящих артистов. Без них нет спектакля. А что может быть более унылым, чем пустая сцена?
Он повернул к Полидоро свое бледное бесстрастное лицо.
– Вы, возможно, понимаете в коровах и землях, но о театре представления не имеете. Что до сеньора учителя, занятого мертвыми и изъеденными молью бумагами, то ему недолго и ошибиться. Попасть в точку дано только артисту, и он сам не знает почему.
– Браво! – прервала его Диана, восхищенная парламентскими способностями Балиньо. – Какая удача, что у Каэтаны такой помощник! Ты счастлива, Каэтана?
Публично обсуждаемая тема счастья воодушевила Полидоро. Как знать, может, Каэтана, актерское призвание которой сделало сцену идеальным местом для выражения чувств, наконец признается избранной публике в своей любви к нему, скрываемой до сих пор из скромности, если не из мести. Настал час избавиться от бремени эмоций, давившего ей на плечи, словно она тащила на себе покойника.
– Если Каэтана не счастлива, то здесь я к ее услугам, – взволнованно сказал Полидоро.
Недавнее приобщение к театральному миру лишило его сдержанности. Признание на людях не вызвало у него чувства стыда, а наоборот – успокоило.
Каэтана держалась с напускной торжественностью. Выражение чувств вне спектакля представлялось ей немыслимым: только чужие отработанные фразы казались правдивыми, примиряли ее с единственной реальностью, какую она знала. Никогда она не сомневалась в выражаемых ею чувствах давно умерших авторов, только их вымысел был для нее источником жизни. Нет, от театра она не откажется ни за что на свете.
Нахмурив брови, Каэтана устремила взор к невидимому горизонту. Медленно прошла через сцену на своих внушительных платформах. Звуки ее шагов отдавались в ушах и в мечтах жадно смотревших на нее зрителей. Балиньо и Князь Данило, будто выполняя полученные ранее указания, присоединились к ней и образовали процессию – не хватало только балдахина, четок и свечей. Три Грации не могли выдержать: присоединившись к актерам, они лишили зрелище театральности, которую те считали своей исключительной прерогативой. Шагая словно под взмахи незримой дирижерской палочки, женщины так старались, что им грозила опасность споткнуться.
– А как же счастье? – умоляющим тоном спросил Полидоро.
Его страдающие глаза мутнели от излучаемого Каэтаной тепла. Влага женского тела, выступавшая, как он полагал, от желания, передалась и ему: он покрылся обильным потом, ускорил шаги и тронул Каэтану за плечо. Та отреагировала на ласку: вздрогнули блестки на плаще Тоски, от волнения порозовела кожа, и она сорвала с головы тиару. От резкого движения волосы рассыпались по плечам – в отличие от глаз они блестели.
– Никогда больше не собирай волосы, – шепнул ей на ухо Полидоро.
Он все больше смелел, вскрывал перед всеми вены своей любви и выпускал проклятый черный сок, который оживлял давно затаившееся в нем желание, хранившееся под вздохи и запах ладана в кадильницах, зажженных в честь Святых Мучеников.
От таких слов Джоконда почувствовала, будто что-то ударило ее в низ живота. Она не могла определить, что за ревность так резко переворачивала ей все внутренности. Особенно потому, что не знала, кого в этом винить, кому адресован ее отчаянный женский вопль.
– Отвечай, Каэтана, – сказала она, стоя рядом с Полидоро.
Каэтана, зажатая в тиски соперниками, повернулась и начала обмахивать веером лица обоих, желая немного остудить страсти. Иначе не дожить им до дня премьеры.
– Бог сотворил меня из глины и отметил клеймом моей человеческой судьбы.
Не договорив, она велела Балиньо принести на сцену ширму.
– Хочу установить границы между нами. После смерти дядюшки Веспасиано я – одинокая артистка.
Балиньо с помощью Вениериса притащил ширму.
– Осторожно. Это ценная вещь, – сказал грек. – Глядя на эти пейзажи, я возвращаюсь на родину.
Каэтана скрылась за ширмой. Там сбросила красный плащ и не торопясь повесила его на одну из перекладин. Полидоро содрогнулся. Чего доброго, она разденется на людях, если так надо на генеральной репетиции.