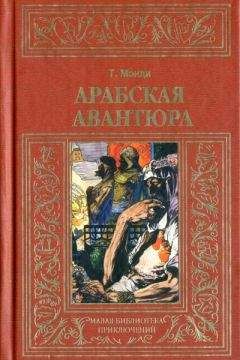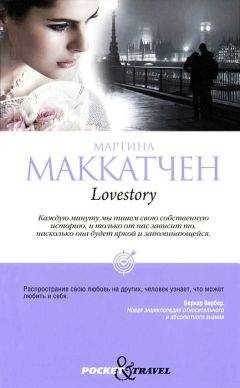Нора Робертс - Цветок греха
Он перевел дух, и она воспользовалась этим, чтобы заговорить.
– Я не стану называть тебя кретином за все, что ты только что высказал. Кроме одного. Ты действительно кретин, если хочешь лишиться своей фермы.
– Продать ее? Да ни за что в жизни! Пускай в моей семье никто не хочет заниматься сельским хозяйством, но у меня есть, слава богу, добрые соседи. Макни или Финн. Они с удовольствием возьмут ее в аренду. Такую землю да не взять! – Его взгляд скользнул по холмам и полям, и она увидела в нем тоску и боль. – Такую землю… – повторил он. – Они не испортят ее.
– И ты готов… – с несколько наигранным возмущением сказала она, – готов отдать в чужие руки свой дом? Свое наследство? Может быть, отдашь им и свое сердце в придачу?
– Я не могу жить без тебя, – спокойно и просто сказал Мерфи. – И не стану.
– Не смей так говорить! Твоя земля и дом – они для тебя все! Ты знаешь, как дать мне почувствовать, какая я плохая и эгоистичная. Но у тебя ничего не выйдет!
Она отвернулась от него и, сунув руки в карманы джинсов, пошла вдоль стены, от одной каменной глыбы к другой. Потом остановилась. «Вот эта», – сказала она себе. Возле нее и стояла та женщина из сновидений. Женщина с ее картины.
Она прислонилась спиной к тепловатому камню, повернулась так, чтобы видеть его лицо. «Странно, – подумала она, – как стало вдруг спокойно, какой уверенной я себя чувствую».
– Мерфи, – сказала она, – ты только что отдал за меня то, что сделало тебя тем, кто ты есть. Нет, теперь подожди и послушай, что я скажу. Этой ночью и прошлой я усердно копалась в себе, в своей душе. Часть души я отдала вот этой картине. – Она указала на завернутый в бумагу рулон, прислоненный к камню. – И когда в конце концов спросила себя, к чему же я пришла, то ответ был один: я никуда отсюда не могу уехать.
Даже на расстоянии она увидела, как загорелись его глаза, но, когда он заговорил, голос был ровным:
– Ты только что сказала, что останешься здесь. Но если так, ты сделаешь это против своего желания. Лишь для того, чтобы пойти мне навстречу, а самой стать несчастной.
– Да, я многое оставлю позади. – Его удивил смех, который сопровождал эти слова. – Я приношу огромную жертву. Я подсчитала цену. Меняю автомобильный шум на пение жаворонка и пересмешника. Это раз. Асфальтовое покрытие – на зелень. Это два. Запах бензина и гари – на ароматы цветов и… навоза. Да, да, навоза.
Она оттолкнулась от каменной стенки и принялась ходить вдоль нее, не вынимая рук из карманов, всем своим видом давая понять, чтобы он не подходил к ней.
И снова заговорила:
– Мои американские друзья, конечно, удивлены тем, что я вчера сказала им вкратце по телефону. Вернее, просто в шоке и так качают головами, что боюсь, как бы они не отвалились. Надеюсь, кое-кто со временем приедет повидаться со мной и увидит собственными глазами, на что я променяла городскую суету. На новую семью, поскольку прежней у меня не стало. На людей, которые мне сделались ближе, чем те, кого я знала до этого… Не думаю, что я совершила плохую сделку.
Она остановилась и заглянула в просвет между камнями, откуда уже вовсю пробивались лучи поднимающегося над долиной солнца, стирая последние остатки тумана. Потом сказала, не оборачиваясь:
– Теперь насчет, как принято выражаться, восходящей лестницы моей карьеры. Как видишь, два последних дня не прошли для меня даром: я все обдумала. Еще лет пять, и у меня будет ключ от кабинета с собственным туалетом. Но что мне это даст? Что дали все прошедшие годы, когда я работала по шестьдесят часов в неделю? Удовлетворение тщеславия, амбиций? Да. Настоящую радость? Нет. А радость я испытала лишь здесь, в Ирландии, когда взяла в руки кисть. Простую неподдельную радость от своего дела. Творчество – если назвать это более громким словом. Так что, думаю, мне будет не слишком трудно сменить деловой костюм на джинсовый.
Повернувшись наконец к Мерфи, она продолжала:
– И еще одно в моих размышлениях. Последнее, но самое главное. Я не хочу быть в Нью-Йорке, карабкаться там по служебной лестнице и находиться в одиночестве в то время, как человек, которого я люблю, будет от меня на расстоянии в три тысячи миль. Не хочу этого! – Она протянула к нему руки. – И не надо никаких сопоставлений! Ради бога! Я ничем не жертвую, потому что жертвовать мне нечем. Это я поняла прошлой ночью. Там у меня не осталось ровно ничего из того, чем бы я дорожила, чего желала, любила, о чем жалела. Все оно здесь, с тобой.
Он стоял словно оглушенный и молчал. В ее взгляде появился испуг, когда она опять заговорила:
– Мерфи, ты понял меня? И не бойся, я ни за что на свете, даже если мы начнем ссориться, не стану упрекать тебя в том, что сделала это ради тебя. Потому что я ничего не сделала. Все сделал ты. Только ты.
Наконец он обрел способность говорить.
– Значит, – произнес он неуверенно, – я так понимаю, ты остаешься со мной?
Вместо ответа она метнулась к каменной глыбе, возле которой стояла картина. Нетерпеливо сорвала с нее оберточную бумагу, протянула холст Мерфи.
– Посмотри и скажи, что ты там видишь!
Мужчина и женщина – на белом коне. Их лица ему хорошо знакомы. Вокруг них все залито солнечным светом. На заднем фоне – каменный круг; две глыбы – одна упала на другую – образуют подобие креста. Медная пряжка блестит у женщины на развевающейся накидке.
Но внимание Мерфи больше всего привлекло то, что всадник, сдерживая одной рукой коня, другой крепко прижимает к себе женщину. И она не противится этому – всем телом льнет к нему.
– Они вместе, – пробормотал он. – Наконец-то. Он не уехал от нее. И она тоже.
– Я не собиралась рисовать их так, – объясняла Шаннон. – Ведь по легенде ему предстоит уехать. И он уехал, хотя она молила его остаться. Плакала и молила, забыв обо всякой гордости. Но он был воином, и его жизнь была битвой. Она же носила уже его ребенка.
– Ребенка?
Он с удивлением взглянул на Шаннон.
– Да. Может, в легенде не так, но я додумала по-своему. Она не сказала ему ничего про ребенка, потому что хотела, чтобы он остался с ней ради нее самой. Они поссорились здесь, в этом каменном кругу, и он вернул ей пряжку. В гневе отдал ей пряжку, а вовсе не на память, как рассказывает легенда. И ускакал.
Шаннон вынула руки из кармана куртки, и Мерфи увидел медную пряжку на ее ладони. Солнце уже поднялось над каменными стенами, пряжка сверкнула в его лучах, как золотая.
– А потом, – сказала Шаннон, вкладывая пряжку ему в руку, – потом он вернулся на белом коне и сказал, что остается с ней и больше никуда не уедет. И она тоже оставалась с ним. И они жили долго и счастливо и умерли в один день.