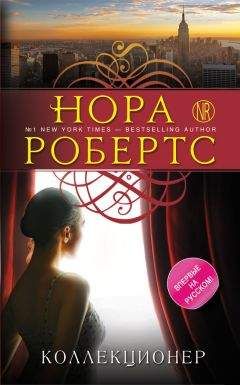Эмманюэль Роблес - Венеция зимой
Около восьми часов Ласснер собрался ехать в Венецию, он уже вышел на лестницу: и тут в квартире зазвонил телефон. Сначала он колебался, потом вернулся и подбежал к аппарату. Мрачный голос медленно спросил:
— Вы Ласснер?
— Что вам надо?
Пауза. Намеренная? И затем:
— Мы до тебя еще доберемся!
Ласснер не сразу положил трубку. Его удивила не столько угроза, сколько нелепый переход с «вы» на «ты». Но, спускаясь бегом по лестнице (лифт опять не работал!), он уже не думал об этом.
Выбравшись из бесконечных в такое время пробок при выезде из Милана, Ласснер включил приемник, чтобы послушать новости. Передавали подробности об убийстве Скабиа, но не сообщили ничего нового. Впрочем, кое-что его заинтересовало. Например, то, что мадам Скабиа отвезла к своим родителям семилетнюю дочь, дабы избавить девочку от тягостной атмосферы, царившей в доме. Коммунисты решительно осудили это убийство. Один из друзей Скабиа взволнованно говорил журналистам о чувстве долга и высоких моральных качествах погибшего. Другой его товарищ сказал, что в последние дни Скабиа все чаще угрожали в письмах и по телефону.
Едва приехав, Ласснер сразу сел печатать фотографии в лаборатории, которую оборудовал сам. Женевское издательство заказало ему альбом на тему «Венеция зимой», а в одном из выставочных залов Лондона ему предложили устроить выставку по собственному выбору.
Он любил это свое убежище в Венеции, о котором не знали и лучшие друзья. Больше всего он ценил здесь тишину, и особенно беспредельную, темную, живительную и успокаивающую тишину ночи.
Не раздумывая, Ласснер прежде всего напечатал крупным планом лицо убийцы Скабиа.
Он прикрепил фотографию к стене в передней, направил на нее свет маленького прожектора. На мотоциклисте был круглый шлем — коричневый и блестящий, серовато-черный воротник свитера закрывал нижнюю половину лица, на котором выделялись огромные очки из плексигласа, исполосованные отблесками света. Убийца напоминал какое-то чудовищно увеличенное насекомое. Впечатление усиливали глаза, смотревшие сквозь стекла очков, — злобный взгляд человека, разъяренного тем, что его фотографируют.
На следующий день к нему зашел Пальеро. Корабельный плотник был сейчас без работы и, как он выразился, «мастерил» кое-что для частных заказчиков на первом этаже. Там ему на время предоставил место приятель-каменщик.
Ласснер заказал Пальеро рамы и фанерные щиты, на которые он потом наклеит фотографии для выставки в Лондоне.
Пальеро был старше Ласснера. Коренастый, курносый, с гривой мелко вьющихся волос, плотник тосковал по прежнему ремеслу, по жизни на корабле, по стоянкам в чужих городах. Он всегда плавал только по Средиземному морю и лишь однажды ходил на грузовом судне в Амстердам; он надолго запомнил портовые кварталы, проституток в витринах и свои тогдашние похождения.
Судя по газетам и журналам, сообщавшим о следствии, которое вел Скабиа по делу о значительной утечке капиталов за границу, Пальеро сделал вывод, что неофашисты из «Черного порядка», должно быть, совершили это убийство по поручению финансовых магнатов, с которыми тесно связаны.
Ненавидеть «Черный порядок» у Пальеро были чисто личные причины. Однажды в воскресенье, когда он служил во флоте в Таранто, он стал жертвой нападения «Черных» на «Народный кружок». Тогда плотника чуть не зажарили живьем. Среди бела дня налили под дверь бензин, который растекся по плиточному полу вестибюля и просочился в библиотеку, где находился Пальеро. От спички вспыхнуло все. За несколько секунд огонь охватил читальный зал, деревянные панели, газеты и книги. Сам он едва успел спастись, выпрыгнув из окна во двор, и сломал при этом ногу. Пальеро долго стоял, засунув руки под лямки комбинезона, и смотрел на фотографию убийцы.
— И долго он будет здесь висеть? — спросил Пальеро.
— А что?
— По мне, так лучше повесить сюда какую-нибудь красотку, куда приятнее! К тому же сразу видно, этот тип страшно на тебя разозлился.
— Это точно, — сказал Ласснер, которого разговор забавлял.
— Могу дать тебе отличный «Беретта»[8], не револьвер, а игрушка.
— Никогда не ношу оружия.
— Почему?
— Из принципа.
— Сказал бы я тебе, что думаю о таких принципиальных…
— И все же давай пообедаем вместе — приглашаю. Пойдем в один ресторанчик, здесь недалеко, там тебе подадут солнце в бутылке.
— Согласен, — сказал Пальеро.
Он еще несколько секунд задержался у снимка на стене, словно завороженный безжалостным взглядом мотоциклиста.
6
Увы, на ее объявление никто не откликался. Элен уже начала отчаиваться, сомневаясь в своем предприятии. Вынужденное безделье расслабляло, опять накатывала тоска.
Однажды после полудня она зашла в церковь. Элен не была верующей и не надеялась обрести здесь душевное успокоение — ее воспитали атеисткой, даже в ранней юности таинства веры не очень волновали Элен. Она заглянула в храм, чтобы укрыться от надвигающейся грозы. Элен сидела одна в полумраке; зарево горящих свечей освещало подножие статуи девы Марии в бархатном, расширяющемся книзу плаще, на голове мадонны сверкала корона. У нее было кукольное личико, а вдохновенно устремленный в небо взгляд, по правде говоря, казался глуповатым.
Здесь, под шум дождя, стучавшего по крыше, Элен вспоминала, как после того приема Андре стал к ней более внимателен, но по своей привычке никогда не делал комплиментов, терпеть не мог этого «сентиментального сиропа». Он хвастался тем, что хорошо знает женщин, но, если у него и был какой-то опыт, он совсем не разбирался в психологии своих подруг, может, из-за равнодушия — ему достаточно было их тела, — а скорее всего просто не способен был их понять. Андре прямо говорил, что не любит интеллектуалок и предпочитает женщин «растительного типа», к которым не без грубоватой иронии причислял и Элен.
А потом наступил тот ужасный вечер, полный мрачных предзнаменований. Андре пришел к ней как обычно, но выглядел хмурым, чем-то серьезно озабоченным. Он ничего не рассказывал, но Элен интуитивно угадывала, что это его настроение как-то связано с ней.
Немного погодя без всяких объяснений Андре неожиданно решил ехать домой. Она припомнила даже, что хотела помочь ему надеть пальто, и это вызвало у него раздражение. Элен слышала, как он внизу нетерпеливо заводит мотор. Она бросилась к окну: в сумерках удалялись огни его машины, и у нее почему-то тревожно сжалось сердце.
Дома Андре удивила тишина. Он окликнул служанку, потом вспомнил, что у нее выходной. В спальне — никого. Ванная комната была открыта, Ивонна лежала в ванне с изрезанными запястьями, погруженная до подбородка в красную воду.