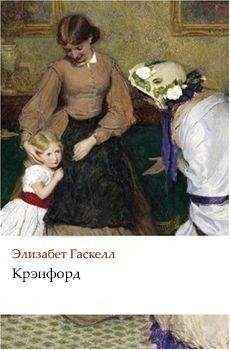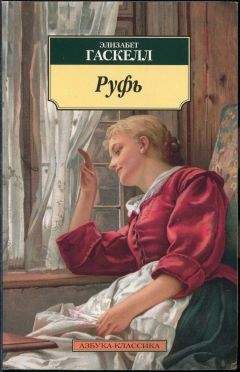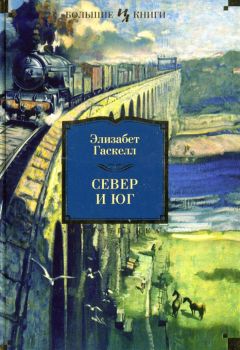Элизабет Гаскелл - Мэри Бартон
В этот день у многократно упомянутого мною перелаза встретились двое рабочих и сердечно поздоровались друг с другом. Один из них был типичный манчестерец: сын рабочего, он всю свою юность, да и зрелые годы, провел на фабрике. Был он узкоплеч, ниже среднего роста и казался даже хилым; ввалившиеся бледные щеки наводили на мысль, что детство его протекало в плохие времена, полные лишений. Черты его лица, хотя и крупные, отличались правильностью и необычайной серьезностью выражения: в этом человеке чувствовалась глубоко скрытая непреклонная воля, которая могла быть обращена как на добро, так и на зло. Однако сейчас, в ту пору, о которой я пишу, лицо его дышало скорее добротой, чем злобой, и давало основание полагать, что даже посторонний человек может обратиться к нему с просьбой об одолжении, почти не сомневаясь, что она будет выполнена. Сопровождала его жена, которую без преувеличения можно было бы назвать красивой, хотя лицо ее опухло от слез и она то и дело прятала его в передник. Лицо это дышало миловидной свежестью, вскормленной сельскими просторами, но также и деревенским глуповатым простодушием, так невыгодно отличающимся от сметливости уроженцев промышленных городов. Женщина эта была на последних месяцах беременности, чем, возможно, и объяснялась неуемность и истеричность ее горя. Знакомый, которого они встретили, был красивее описанного мною человека, но как будто не такой умный; он казался веселее, жизнерадостнее и, несмотря на более зрелый возраст, сохранил гораздо больше юношеского задора. Он бережно нес на руках ребенка, а его жена, хрупкая, болезненная с виду женщина, слегка прихрамывавшая при ходьбе, несла другого младенца того же возраста. Крошечные слабенькие близнецы пошли в мать и выглядели такими же болезненными, как она.
Их отец заговорил первым, и легкое облачко сострадания омрачило его весело улыбающееся лицо.
– Ну, Джон, как дела? – спросил он. И более тихо добавил: – Есть вести от Эстер?
Тем временем жены их поздоровались, как старые подруги, однако нежный жалобный голосок матери близнецов, казалось, вызвал лишь новый приступ рыданий у миссис Бартон.
– Ну, вот что, милые, – сказал Джон Бартон, – довольно вам ходить. Моей Мэри недельки через три уже срок, а вы, миссис Уилсон, и в лучшие-то времена не могли похвалиться особой крепостью, – заметил он так добродушно, что на него нельзя было обидеться. – Давайте присядем вот тут: трава совсем высохла, да и обе вы не такие уж неженки, чтобы простудиться. Стойте-ка, – заботливо добавил он, – расстелите сначала мой платок, а то еще платья испачкаете – вы, женщины, всегда ведь об этом печетесь. А теперь, миссис Уилсон, давайте мне малыша, я уж понесу его, а вы побеседуйте с моей женушкой, да успокойте ее: очень она, бедняжка, из-за Эстер убивается.
Сказано – сделано: женщины уселись на голубые бумажные платки мужей, а те, взяв каждый по ребенку, отправились гулять. Однако едва Бартон повернулся спиной к жене, как лицо его снова помрачнело.
– Значит, вы так ничего и не слышали о бедняжке Эстер! – заметил Уилсон.
– Да, по-моему, и не услышим. Сдается мне, что она сбежала с кем-то. Жена все горюет и думает, что она утопилась, а я говорю ей, что люди не наряжаются, когда идут топиться. А миссис Брэдшоу – хозяйка, у которой она снимала комнату, рассказывает, что, когда последний раз видела Эстер во вторник, та спускалась вниз такая принаряженная, в своем лучшем платье и в перчатках, с новой лентой на чепце, – словом, настоящая леди, какой ей нравилось себя считать.
– Ну, такой красавицы поискать!
– Да, девушка хоть куда, это-то ее и сгубило, – со вздохом заметил Бартон. – Эти букингемпширцы – не нам чета: сам видел, какие красавицы приезжают в Манчестер на работу. Разве у манчестерских девушек увидишь такие свежие розовые щечки и такие темные ресницы, что серые глаза кажутся черными, как, к примеру, у моей женушки или у Эстер? В жизни не видывал двух таких красивых сестер! Да только красота эта – одно горе. Вот Эстер – ведь так зазналась, что никакого с ней сладу не было. Хочешь ей дело посоветовать, а она только злится. Правда, жена больно ее баловала: она ведь намного старше Эстер и была ей как мать, – так о ней заботилась.
– Просто непонятно, почему она ушла от вас, – заметил его приятель.
– Это все работа на фабрике виновата. Когда дела много, девушки прилично зарабатывают и вполне могут на эти деньги жить. Моя Мэри никогда не будет работать на фабрике – это я твердо решил. А Эстер все деньги на наряды тратила – хотела еще краше быть, и так поздно домой приходить стала, что я под конец не выдержал и отчитал ее. Хозяйка моя твердит, что я грубоват был, но ведь я хотел добра, потому что люблю Эстер, хотя бы из-за Мэри люблю. А сказал я ей тогда вот что. «Эстер, – сказал я, – плохо ты кончишь, коли будешь так жеманничать, ходить в разлетающихся шарфах да гулять в такую пору, когда все честные женщины давно спят. Ты станешь уличной девкой, Эстер, а тогда уж не обессудь, коли я выставлю тебя за дверь и не дам позорить свой дом, хоть ты мне и свояченица». А она мне и говорит: «Не беспокойся, Джон, я сейчас же соберу вещи и уйду, потому что никогда я не позволю, чтоб меня так называли». И раскраснелась же она, как петушиный гребень, глаза огонь мечут. А увидела, что Мэри расплакалась (Мэри-то наша терпеть не может, когда в доме бранятся), подошла к ней, поцеловала, принялась уверять, что не такая, мол, она плохая, как я думаю. Тут мы стали говорить спокойнее, без всякого зла, потому как я ведь все-таки любил эту девчонку, – уж больно она была хороша да нрава веселого. А потом она вдруг и говорит (и в ту пору я подумал, что права она): давайте, мол, я съеду от вас, буду приходить к вам в гости, и тогда мы ссориться не будем.
– Значит, вы с ней вовсе не поссорились. А люди болтали, будто ты ее из дому вышвырнул и сказал, что никогда больше не станешь с ней разговаривать.
– Люди всегда думают о человеке хуже, чем он есть, – с сердцем сказал Джон Бартон. – Она не раз приходила к нам после того, как от нас съехала. В позапрошлое воскресенье – нет это было в прошлое – она приходила к Мэри пить чай. И все – больше мы ее не видели.
– И она была такая, как всегда? – спросил Уилсон.
– Да как сказать. Я потом не раз думал, что она была вроде бы тише, мягче, застенчивее, как и подобает девушке, не такая шумная и дерзкая, как всегда. Пришла она к нам часа в четыре, когда кончилась дневная служба в церкви, повесила чепец на свой гвоздик – куда всегда его вешала, пока жила с нами. Мэри, помнится, нездоровилось, и она сидела в качалке, а Эстер примостилась на скамеечке у ее ног. Я еще подумал: до чего же она красивая. Эстер то смеялась, то плакала, но так тихо, кротко, словно ребенок – духу у меня не хватило ругать ее, тем более что Мэри уж больно волновалась. Одно только я сказал ей тогда, и довольно резко. Обняла она нашу маленькую Мэри за талию и…