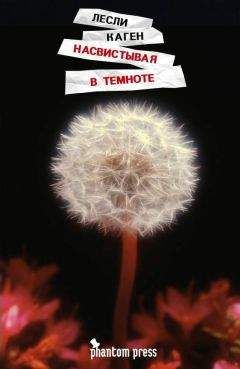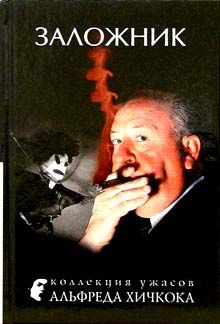Ширли Лорд - Сторож сестре моей. Книга 2
— Никогда больше не войдут к нам русские танки, чтобы держать нас в повиновении, как это было в 1968 году, — сказал отец только сегодня утром. Этот год был ненавистен ему, год, когда Наташа, его жена и мать Кристины, бросила их, а Гусак сменил Дубчека, чтобы установить самый суровый режим правления, какой люди помнили со времен нацизма.
У Кристины на глазах блестели слезы. Слезы стояли в глазах Радки и всех, кто их окружал, на лицах сияли широкие улыбки, и они во все горло кричали от радости, звонили церковные колокола, сигналили машины, и гудели пароходы на реке, чтобы отпраздновать великое событие: их любимая страна наконец получила свободу, как и вся Восточная Европа. Коммунистические режимы рассыпались, точно фишки домино, начиная с самого лета. Кажется, будто злая колдунья наконец сняла проклятие, думала Кристина.
Сейчас она маршировала в колонне по тридцать-сорок — кто знает, по сколько — человек в ряд, которая двигалась по направлению к Вацлавской площади, где скандировали другое имя: «Гавел… Гавел… Гавел…» Их доблестный, благородный герой.
Кристины не было дома много часов, и когда в конце концов она вернулась, их улица тоже была заполнена народом; люди танцевали мазурку, сигареты и пиво передавали по кругу, как будто уже наступило Рождество, до которого оставалось еще две недели. Даже ее отец воодушевленно разговаривал с соседями на улице, без костылей и ни на кого не опираясь. Когда девушка вбежала в прихожую, она едва не столкнулась с бабушкой, спешившей навстречу, на щеках ее горели два ярких пятна.
— Ой, Кристина, Кристина… — Она зарыдала. — Ты опоздала, только что звонила твоя мать… нет-нет, прости, я хотела сказать — твоя тетя Людмила… я хочу сказать, Луиза. Она приезжает домой… она летит домой на первом же самолете…
Но Луиза не полетела в Прагу на самолете. Она решила, что должна ехать на машине, медленно, с чешским шофером или кем-то, кто знает страну, чтобы насладиться видами и звуками, почувствовать всем сердцем свою родную страну, чтобы приглушить боль, которую, она была уверена, ощутит, вернувшись назад после сорока лет отсутствия. Сможет ли она вынести это испытание? Она не знала. Она знала только одно: с тех пор, как услышала по телевидению о перевороте, который американская пресса называла чешской «бархатной революцией», ее больше ничто не волновало, кроме возвращения домой. Ее не трогало озлобление Кика в связи с ее твердой позицией по отношению к Дестине; ее даже не огорчило известие, что на уик-энд Кик ездил навещать Дестину на Малибу, или заносчивость и наглость Фионы, предложившей ей выкупить у них компанию!
Все это не имело никакого значения, она хотела только одного — снова обнять свою мать и уговорить ее поехать с ней в Америку, чтобы заботиться о ней до конца жизни. И если Петер и Кристина захотят приехать, это тоже будет замечательно. У нее нет никакого тайного умысла, говорила она себе. Она не пытается осложнить жизнь Наташе и Чарльзу, ничего подобного. Наконец-то она могла смотреть на все это с высоты.
Так вышло, что лишь после Нового года, в первых числах января, она смогла пересечь границу Чехословакии. На таможне над дверью иммиграционной службы висел портрет Вацлава Гавела, но в остальном, казалось, ничего не изменилось с того дня 1968 года, который она никогда не забудет, когда она под дождем ждала Наташу на австрийской границе. У таможенников по-прежнему были хмурые и подозрительные лица, и они демонстративно носили оружие. Луизу явно ждали, но один молоденький солдат с угреватым лицом открыл две сумки из ее багажа, вынимая и перетряхивая вещи, а затем даже не положил обратно красиво упакованные свертки.
По пути в Прагу длинный конвой русских армейских машин, двигавшийся с черепашьей скоростью, оттеснил ее автомобиль к обочине, и Луиза похолодела от страха. Больше тридцати минут они ждали, пока проедет конвой.
— Возвращаются домой в Литву или Азербайджан, спустя двадцать лет, — сказал ей шофер. — Небольшая часть из пяти советских дивизий, «охранявших» Чехословакию для собственного спокойствия, — добавил он язвительно.
Перевалив через пологие, заиндевевшие холмы, они увеличили скорость; когда они пересекали Богемское плато, она попыталась отыскать знакомые места, где бывала в детстве, где однажды видела, как собирают хмель для настоящего пльзенского пива, который варят в Пльзене; смотрела на замерзшие деревни, состоявшие из гранитных коттеджей и церкви, покрашенных краской пастельных тонов, пока, стряхнув дремоту, не обнаружила, что они спускаются с крутого холма в предместье Праги.
— Остановитесь, — сказала она, когда они очутились в центре города. Неяркие лучи солнца с трудом пробивались сквозь тучи; жители казались замерзшими, но улицы были забиты народом, и открытые кафе на мостовых переполнены. Ей захотелось немного посидеть в кафе, почувствовать себя частью толпы.
— Посидите со мной, — попросила она шофера. Он понял.
Ее глазам открывались удивительные картины. Среди суетливо спешивших куда-то однообразно одетых домохозяек и служащих в тяжелых пальто вдруг появились панки, юноша и девушка, с гребнями волос на макушке, кольцами в носу и ушах, одетые в тенниски, раскрашенные полосами национальных цветов — красного, белого, голубого — и обмотанные убогими шарфами. Прошла мимо группа кришнаитов, распевая песни и дрожа от холода в своих робах шафранового цвета, а за ними переваливался гусиной походкой человек в военном мундире с чучелом гуся, привязанным веревкой к спине.
Луиза посмотрела вопросительно на шофера, тогда как люди, сидевшие за столиками вокруг них, начали вставать и весело приветствовать ряженого.
— Он отнял у чешского народа двадцать один год, — пояснил шофер.
Луиза просидела в кафе, разглядывая прохожих, больше часа, а потом настало время переправляться через реку и идти домой.
Неужели их домик всегда был таким маленьким? Она ужасно волновалась и потому сначала даже вообразила, что ошиблась улицей. Пока она колебалась, стучать или не стучать в разбитую дверь с облупившейся почти всюду краской, та распахнулась сама от сильного порыва ветра. Она почувствовала знакомую смесь запахов — растворов для химической завивки и окраски волос и пищи, готовившейся на вертеле, и ее охватило чувство невыносимой горечи. Слезы потекли по лицу. Она вновь стала девочкой, молодой женой Милоша, которая покинула эту жалкую дыру, чтобы начать с ним новую жизнь в Америке.
Через несколько секунд по лестнице к ней слетела невозможно длинноногая девушка в микроскопической мини-юбочке, красивая, с высокими, экзотическими скулами, большими, орехового цвета глазами и рыжими волосами, струившимися по плечам. Она смеялась, и плакала, и кричала по-чешски: