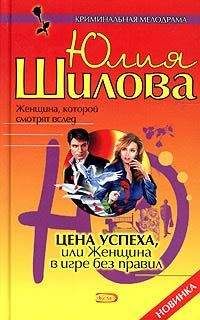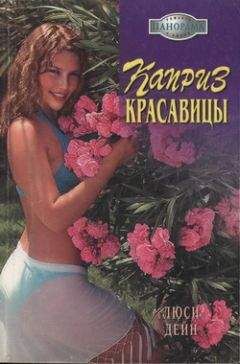Лайонел Шрайвер - Цена нелюбви
Селия любила облачаться в кружевные платьица и подкрашивать губки моей губной помадой, которой сама я пользовалась редко. Однако ее девичья натура не ограничивалась тягой к украшениям на моем туалетном столике и ковылянием в моих туфлях на высоких каблуках, а выражалась в излишней слабости, зависимости и доверчивости. У нее было множество изумительных качеств, но не было сильного характера. Она так многого боялась! И не только темноты, но и пылесоса, подвала и спускаемой воды. Стремясь угождать, она приучилась к горшку задолго до достижения двух лет, но в детском саду боялась одна заходить в туалет. Однажды она увидела, как я выбросила заплесневелый йогурт, и еще несколько недель не приближалась к холодильнику и не дотрагивалась ни до чего, напоминавшего йогурт: ни до ванильного пудинга, ни даже до белой гуаши. Как многие дети, Селия была сверхчувствительна к текстуре; она терпимо относилась к кашицеобразной грязи, но не переносила то, что называла, произнося это слитно, «сухой грязью»: рассыпчатую землю, пыль на линолеуме, даже муку. Когда я в первый раз учила ее раскатывать тесто, она, испуганно вытаращив глаза, застыла посреди кухни с растопыренными, испачканными мукой руками. Селия всегда переживала свои страхи молча.
Что касается еды, я не сразу научилась понимать, что именно вызывает у нее отвращение. Не желая показаться привередливой, она впихивала в себя все, что ей предлагалось, пока я не стала обращать внимание на ее сгорбленные плечики и рвотные позывы. Она не переносила любую еду «с комками» (тапиоку, хлеб из грубой ржаной муки с изюмом), «слизь» (окру, томаты, густые соусы на кукурузном крахмале) или «шкурку» (жевательные конфеты, остывшую пленку на горячем какао, даже неочищенный персик). Пока я утешалась тем, что получила ребенка хоть с какими-то предпочтениями — еду для Кевина я с тем же успехом могла бы готовить из разноцветного воска, - Селия дрожала, бледнела, покрывалась потом, и казалось, что еда готовится проглотить ее, а не наоборот. Для Селии все ее окружение было живым, и каждый комок тапиоки обладал плот ной, тошнотворной, маленькой душой.
Я понимаю, как утомительно вечно помнить о необходимости оставлять свет в коридоре или вскакивать посреди ночи, чтобы проводить ее в туалет. Не раз ты обвинял меня в том, что я ее балую, что потворствовать страху — все равно что его подпитывать. Но, обнаруживая в коридоре в три часа ночи дрожащую от холода четырехлетнюю дочку, зажимающую ножками ночную рубашку, разве не должна была я просить ее всегда-всегда будить одного из нас, если ей нужно пописать? Между прочим, Селия боялась столь многого, что, пожалуй, была по-своему от важной. Какое количество ужасных текстур и темных углов приходилось ей смело встречать в одиночку?
Однако я установила границу дозволенного, когда ты в от чаянии назвал Селию «прилипчивой». Согласись, это безобразное слово. Разве можно говорить о милом, уязвимом создании как о чем-то липком и назойливом, от чего невозможно отделаться. И «прилипчивость» — не просто злое определение для самого нежного на земле существа; оно подразумевает изнурительно непрерывное требование ответного внимания, одобрения и любви, а Селия никогда ни о чем нас не просила. Она не тащила нас посмотреть, что построила в своей комнате, и не дергала нас, когда мы пытались читать. Если я неожиданно обнимала ее, она обнимала меня в ответ с такой пылкой благодарностью, будто была недостойна моей ласки. После моего возвращения в НОК она ни разу не пожаловалась на мое отсутствие, хотя личико ее мертвенно бледнело от горя каждый (раз, когда я оставляла ее в детском саду, и расцветало, как в Рождество, когда я приходила домой.
Селия не была прилипчивой. Она просто была ласковой. Иногда, когда я возилась на кухне, Селия обхватывала ручками мою ногу, прижималась щекой к моему колену и изумленно восклицала: «Ты мой друг!» Как бы сурово ни относился ты к ее рождению, ты не был черствым человеком и находил подобные Признания трогательными. Подтверждение того, что мы ее друзья, казалось, восхищало ее больше, чем смутные, весьма абстрактные, торжественные заявления о родительской любви. Хотя я знаю, что из двоих наших детей сына ты считал гораздо умнее, Кевин вошел в этот мир, абсолютно не понимая, зачем он и что с ним делать, а Селия прибыла с непоколебимой уверенностью в своих желаниях и в том, что жизнь стоит того, чтобы жить; от этого невозможно отмахнуться. И наверняка это в своем роде интеллект.
Ладно, она не очень хорошо училась. Но лишь потому, что слишком старалась. Она так стремилась делать все правильно, так боялась подвести родителей и учителей, что не могла вникнуть в суть задания. По меньшей мере она не презирала все, чему ее пытались научить.
Я пыталась внушить ей: ты просто запомни, что столица Флориды — Таллахасси, и все. Однако Селия верила в тайну так же сильно, как ее тезка, и не могла представить, что все так просто и нет никакой магии, и сомневалась в себе. В контрольной работе на столицы штатов она не могла сразу ответить «Таллахасси» только потому, что это название мгновенно возникало в ее Голове. Кевина тайны никогда не тревожили. Все в этом мире он считал одинаково ясным, и его проблема состояла не в том, чтобы что-то выучить, а в том, стоит ли напрягаться. Селия верила в других с тем же пылом, с каким не верила в себя, и потому была уверена: никто не заставит ее учить очевидно бесполезное. Точно так же цинизм Кевина убеждал его в том, что злобная, садистская педагогика вбивает в него сплошную ерунду.
Я не хочу сказать, что Селия не выводила меня из себя. Как и Кевина, ее невозможно было наказать, ибо редко появлялась причина наказывать ее, кроме как за то, что, как выяснялось, она не делала. Селия принимала малейший выговор близко к сердцу, и казалось, что убиваешь муху кувалдой. Селия тяжело переживала малейший намек на то, что разочаровала нас, и начинала бурно извиняться еще до того, как мы объясняли ее вину. Она редко не слушалась, но была рассеянной. Одно резкое слово ввергало ее в панику и раскаяние, и признаю, иногда я спускала пар, прикрикнув на нее: «Селия, я же велела тебе накрыть на стол!»
Однако больше всего меня раздражало другое. При разумном применении страх — полезное орудие самосохранения. Вряд ли водоворот воды в унитазе мог выскочить и укусить ее, но страхов, переполнявших Селию, хватило бы и на реальные опасности. В нашем доме было только одно, чего следовало бояться, но она его обожала.
Мне сейчас не до споров, и я не собираюсь нагло пользовать ся тем, что это мой рассказ и моему мнению тебе придется под чиниться. Я не притворяюсь, будто знаю всю историю, поскольку не думаю, что ты или я когда-либо получим о ней полное представление. Меня тревожат воспоминания моего детства на Эндерби-авеню, где мы с братом заключили гораздо более неустойчивый союз, и большая часть нашей жизни протекала вне поля зрения нашей матери. Бывало, один из нас бросался защищать нашу точку зрения (на что она смотрела как на обман), однако по большей части наши стычки, сражения и взаимные нападки происходили если не втайне, то зашифрованно. Я была настолько погружена в мир коротышек, что, насколько помню, лет до двенадцати в нем почти не было взрослых. Может, у тебя и Валери было иначе, поскольку вы не очень-то любили друг друга. Однако многие — возможно, большинство братьев и се стер