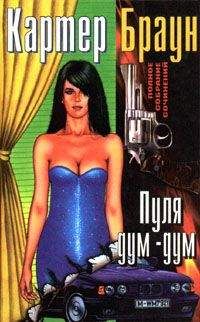Анна Михальская - Foxy. Год лисицы
Нет у него дома, остыло брошенное гнездо. Если и был кто с ним – дорогой, милый, родной его сердцу, – где он? Где сын, где жена? Далеко, так далеко, что на темном лугу, как ни смотри – не увидишь, как ни зови – не услышишь…
Вот оно! Наконец! Кто-то стучит! И от стука, нетерпеливого стука звенит, дребезжит тонкое оконное стекло. Крик и веселый смех под окном! У дверей!
Прилетела на практику новая стайка студентов. Растормошили, разожгли огонь, напоили чаем, побежали вниз, к реке, по рассветной дороге – купаться. С ним, только с ним.
Хлопоты, хлопоты… Снова жизнь. Рано собрался – да и некуда. Все закрутилось снова: еда, вода, рюкзаки и спальники, главное – работа. Подросшие звери смотрят сквозь вольерную сетку сурово: волки – не волки, а объекты курсовых и дипломных работ.
Вечером за столом – разговоры. У раскаленной от готовки печи – новые стриптизерши, промышленные альпинистки, наездницы и друзья крупных хищных. Подруги волков. Молодые волчицы.
Рано уезжать собрался. Не время. Еще не время.
* * *Саша Огнев снова стоял на лестнице, внизу, у самого подножия, где перила расходились в стороны двумя крутыми завитками. Опершись на один из них, он ждал.
«Страсть барокко», – думал он. Почему барокко, он не знал: слово явилось само. Здесь, на этой лестнице. Крутые завитки судьбы, продуманный вихрь чувств, изгибы перил и кровель – рассчитанное желание. А может быть, скрытое внутри слова короткое «рок».
О том, как достать деньги, чтобы быть здесь, он уже не задумывался. Просил в долг у всех. Даже у матери. Знал ведь, что не отдаст. Но то, что случилось 14 июля, было непоправимо.
За минувший с тех пор месяц всего неделю он провел в Москве, а значит, не приходил к подножью этой лестницы. Не ждал. Сколько раз он видел ее? Если считать первый – 14 июля – всего шесть. Дважды в неделю.
Вот, наконец. Сегодня судьба благосклонна.
Черные блики на крупных завитках кудрей, черные брови крутыми дугами на белом мраморе лба, темное сияние глаз. Мрак и свет. Розы на щеках. Розовый шелк, словно это кукла, самая красивая на кукольном балу – и маленькие тупые носки атласных туфель.
Он не знал, откуда эта девочка. Она не появлялась на ступенях – она являлась ему, и он не думал о ней – только смотрел, как она сходит вниз, а потом исчезает. Когда он приходил в себя, ее уже не было.
Он жил у Алисы – свободной и веселой подруги, светлой дарительницы бесед, – словно у вечно журчащего лесного ручья. Но кто благодарен ручью за его лепет? За его свежесть? За его живительную влагу? За его чистоту?
Алиса, жаворонок-сокол, Тирселе – жертва и молния, Marie de France – источник речей и песен, сказок и странных пророчеств – она была счастлива с ним, эта рыжеволосая прорицательница из Текстильщиков. А может, теперь она счастлива всегда. Так он думал, сидя рядом с волшебницей – тоненькой, длинноносой, – глядя в ее узкие светлые глаза за столиком кафе, под низким небом Парижа, под белыми летящими прямо над головой облаками – кажется, стоит руку протянуть – и поймаешь. Тени от облаков скользили и проносились, словно тени огромных птиц, и их обоих то бросало в холод, то снова жгло августовское солнце.
– Ну так что это со мной, как ты думаешь? Стоит мне узнать, кто она? Заговорить? Познакомиться? – спрашивал он Алису, вернувшись после созерцания пустой лестницы. Или – после явления розовой куклы. – Знаешь, она очень похожа на одну картину… Да, ту, что у тебя. На Лолу из Валенсии.
– Нет.
– Ты что, видела ее?
– Нет.
На самом деле видела, конечно. Еще тогда, в День взятия Бастилии. И тогда еще поняла, что случилось. Она знала, что так бывает. И чем все это кончается, тоже знала. Сходила еще пару раз – за ним по следам. Рассмотрела из-за колонны. Все разузнала, поговорила с отцом. Выслушала подробный рассказ о девушке, ее русско-американской матери и московском папочке – уж его-то она пока не забыла… Джим, знаток женщин, не просто рассказывал – сообщал результаты расследования. А теперь она просто ждала. Ждала, как лисица, затаившаяся в зарослях, – без надежды, но терпеливо. Время, только время, быстрое и вечное, – ты даришь и отнимаешь, только ты.
– Если не видела, так откуда знаешь, что нет? Так вот сразу – «НЕТ!» – большими буквами… Да ты ревнуешь!
– М-м-м…
– Извини, милая. Как я мог. Ты – и пошлость… Ты – чудо, ну, и это тоже чудо, и все чудесно. Но только с тобой. Это ты все одушевляешь, как фея в «Золушке».
Алиса молча смотрела на него. Серебряный шлем волос, а глаза уже давно не стальные – будто поднято забрало, и мечтательно голубеет взгляд. Что-то он понимает. И не что-то – главное. Значит, все хорошо. Значит, стоит ждать. Пусть смотрит на свою девочку-куклу.
– Знаешь, Тирселе, мне кажется, она – просто твое создание. Персонаж романа, ожившая героиня. Что ты там еще напридумала? Признавайся. Она живая? Или это видение? Твоя воплощенная мысль?
– Может быть. Придется тебе проверить. Боишься?
– А вдруг это Лола де Валанс в юности? Бывает ведь, что картины оживают. А вокруг тебя оживает все.
– НЕТ!!
– Но почему «НЕТ!»? Откуда ты знаешь? Почему это не Лола?
– Это Лола. Другая Лола, не та. Двойник.
– ???
– Это дочка Мергеня. Елизавета. В семье – Лолита. Ло.
– НЕТ!!!
– Ну, вот видишь…
* * *– Послушай, – сказал Джим. – Что ты какая… Неживая будто? Ты так страдаешь, милая? Что с тобой?
Аликс посмотрела на него – редко она смотрела так прямо. Почти никогда.
Постель была мягкой, как парижский вечер. Дневная жара спала, и свежесть, странная хрустальная свежесть дрожала в воздухе.
– Никто никому не верен, – сказала женщина. – Вот почему. И ты… Ты тоже. Все повторяется. Всегда все повторяется. – Она повернула к нему лицо, не поднимая головы от подушки, и смотрела в глаза. Лоб ее, сухой и холодный, открылся, челка светлых волос свисала набок. Между тонкими бесцветными бровями залегла глубокая складка.
– Что это значит – верен? Не верен? – Его взгляд стал жестким.
– Не знаю. Я не знаю… – Слеза медленно прокладывала себе путь по ее щеке и наконец капнула. – Все уходят. И каждый раз я боюсь, что навсегда. Мне трудно расставаться. Больно.
– Я не обманываю тебя, – сказал Джим. – Мне нужен дом.
– И мне. – Она задохнулась от волнения. – Мне тоже.
– Ну, тогда все просто. Ты понимаешь, как все просто?
– Нет, – сказала она и долго молчала. – Все повторится. Будет дом, и я в нем – одна. Как всегда. Я буду ждать и бояться, что ты не вернешься. Каждый раз, когда за тобой закроется дверь, я буду думать, что ты смеешься с другой женщиной. Что тебе весело. И ты счастлив.
– Ну конечно, – сказал Джим. – Так и будет. Мне весело, я счастлив – даже теперь, хотя я просто бездомный одинокий мужик. А представляешь, как хорошо мне будет в нашем доме? И тебе? Как хорошо нам будет рядом? А женщины… Да, мне нужна одна. Вот эта. Одна женщина в одном доме. Моя – в моем. А?