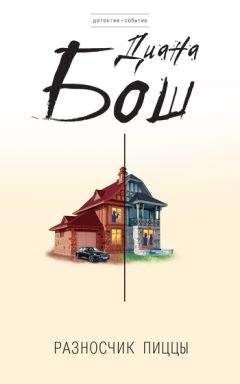Мария Спивак - Твари, подобные Богу
— Спасает то, что Господь совершенен, — хитро улыбнулся отец Станислав в ответ на пространные рассуждения Умки. — И к тому же един.
Поразительно: несколькими словами сумел сформулировать целое мировоззрение. Аналогия с супружеством хоть естественна, но не уместна: монашество — венец идеальной любви. Любви, лишенной соблазнов — ибо ничего прекрасней и выше Бога нет.
Только в одном им не удавалось достичь соглашения — точнее, Умка не принимала позиции отца Станислава; это напрямую касалось самого главного в ее жизни — работы. Она никогда не понимала, за что так чудовищно страдают невинные, не успевшие нагрешить дети, и при всем желании не видела в подобном «промысле» ничего кроме неоправданной жестокости. Да, высшая логика не постижима с точки зрения логики человеческой, да, нам не разглядеть хитросплетений судеб, да, святой Франциск называл смерть «сестрой» и она цель жизни и радость каждого христианина, но… детей-то мучить зачем? Если, скажем, для наказания родителей, так и просто смерти ребенка достаточно?
Отец Станислав молчал, перебирал четки — не оттого, казалось Умке, что исчерпал стандартные аргументы, а оттого, что ей удалось зародить в нем сомнения. И она неизменно вздрагивала, когда, намолчавшись, он внезапно хлопал по подлокотникам кресла, радостно предлагал:
— Кофейку? — и, сверкнув глазами, потирал ладони.
Далеко не сразу Умка начала сознавать, что мальчишеское лицо, слегка хулиганские повадки и приятный акцент тридцативосьмилетнего Станислава рождают в ней не вполне праведный отклик. Хуже того, он это знал, и ему это было приятно. Испытывал ли он что-то ответное? Да, если ее женский опыт чего-то стоит. Потому они и ведут себя как два подростка, для которых главное — скрыть взаимное влечение.
Это становилось все труднее. При последней встрече отец Станислав, передавая ей книгу — ту, что она сейчас пыталась читать и отложила, — коснулся ее руки. Случайно, разумеется, иное представить нельзя. Но как покраснел, закашлялся! Принялся поправлять хабит, веревку, волосы. Умка тоже покраснела и начала отряхиваться от невидимых блох — при том что разговор о святом Августине продолжался…
И смех и грех. Что за божеское наказание? Почему идиотское животное начало лезет наружу, чтобы все испортить? Почему препятствия только распаляют его? Почему ему так трудно противостоять? И в обычной-то жизни все это лишнее, а так…
Умка перекрестилась: Господи, спаси и сохрани!
Хватит туда ходить. Но отец Станислав, расставаясь, непременно приглашает заходить снова — промолчал бы раз, она больше ни за что бы не пришла. С другой стороны, они беседуют в так называемой общей комнате, одни не остаются, другие монахи ей рады, а на воскресных мессах отец Станислав с Хукой ведет себя радушней, чем с ней самой. Может, она все придумала? Тогда она невероятная дура! Надо исповедаться, но у нее не хватает смелости…
Умка молилась и просила Господа сделать так, чтобы ее общение с отцом Станиславом стало исключительно духовным и принесло пользу обоим — но чем больше молилась, тем, естественно, чаще вспоминала смешливые губы и плутоватый взгляд неотразимого францисканца. Хитрый способ избрали для ее испытания. «Поющие в терновнике–2», не больше не меньше. Почему именно сейчас, когда ее жизнь, наконец, наладилась? Неужели она не заслужила покой? Она же счастлива с Хукой? Тогда почему все в ней против усыновления ребенка — из-за Станислава? Неприятная мысль.
Последний десяток лет Умка, можно сказать, только тем и занималась, что осуждала знакомых мужиков, которые, точно по команде, после сорока дружно побросали семьи ради молодых девок. Умка взирала на оставшийся после них кошмар, хаос и разрушение, выслушивала рыдания жен, с удивительным однообразием оправдывавших своих неблаговерных «непреодолимыми чувствами», и не уставала назидательно повторять: человек отличается от животного наличием разума, а тот затем и придуман, чтобы чувствами управлять.
Как выяснилось, так, да не совсем. И тем не менее — sapiens она или кто?
Умка нарочито тяжело, почти с кряхтением встала, — старая кляча, а туда же, — и, шаркая, поплелась на кухню.
Книга отца Станислава подождет. К возвращению Хуки надо обязательно приготовить что-нибудь очень, очень, очень вкусное.
Основной инстинкт — штука, бесспорно, сильная, но у нас на него есть оружие — дух, извините, конечно, за выражение, плюс еще один нехилый союзник в борьбе. И с Ним мы, надо верить, не пропадем.
* * *Погода в Нью-Йорке стояла холодная, но ясная, и вид на Манхэттен из заоблачного кабинета Митчелла Джонсона открывался великолепный. Прямоугольник Центрального парка отсюда казался бассейном, сейчас — со сложным узором на дне и перламутрово-прозрачной водой, а летом — подернутым густой зеленой ряской… Митчелл обожал этот вид и вообще это место в городе; считал его талисманом своего успеха и ни за что не согласился бы переехать. У него был тайный ритуал перед началом рабочего дня, почти никогда не нарушаемый: он мысленно нырял в «бассейн» и неторопливо, с наслаждением проплывал по любимым дорожкам.
Сегодня возле одной из скамеек вспомнил: ах да! Надо позвонить в Москву Тате. И поскорее, там уже вечер. Ладно, еще немножечко, и займемся делами.
Кстати, пожалуй, одна только Тата могла бы понять его странное развлечение. Друзья и коллеги не оценили бы прелести воображаемого плавания меж деревьями, лишь поинтересовались бы осторожненько здоровьем и спросили, давно ли он посещал психоаналитика. Между тем, что странного — ну, любит он Центральный парк, и вся недолга. Как перебрался в Нью-Йорк, так и любит.
Благодаря аналитику Митчелл знал, в чем его проблема: он везде чуточку не на месте. Мускулистый здоровяк со Среднего Запада, из Форт-Уэрта, внешность — хоть сейчас в вестерн. В Нью-Йорке это сразу в глаза не лезет, мало кто замечает, однако факт остается фактом: в безупречных костюмах на деловых приемах и встречах он, Митчелл Джей Джонсон, выглядит внушительно, но чуточку театрально. Зато в шляпе, ковбойке, сапогах по бедра попадает в самое яблочко образа. Снаружи, не внутри. Настоящие ковбои быстро вытолкали бы его из салуна.
Издателем Митчелл стал, потому что боготворил литературу и с детства невероятно много читал. Его эрудированность поражала, но, увы, интеллектуалы с библиофилами тоже не числили его своим, не принимали в компанию — одни как слишком крутого парня, другие как магната, капиталиста, акулу бизнеса. Всем в нем мерещилась какая-то фальшь, хотя все ему улыбались.
Обидно, но что поделаешь. Тата однажды сочувственно вздохнула: «Бедный Митчелл, никто не понимает его тонкой души». Пошутила. А ведь он ни на что не жаловался.