Анна Берсенева - Все страсти мегаполиса
«Это ты ребенка хочешь, – сердито подумала Соня. – А Андрюше твоему, может, медвежата интереснее. Кто их вообще знает, чего они хотят, эти мужчины!»
Но вслух она этого, конечно, не сказала. Невозможно было высказывать такие вот сердитые мысли такой девушке, как Таня. Да и не к Тане эти мысли относились...
Глава 11
Соня проснулась от того, что кто-то осторожно тряс ее за плечо. Она вздрогнула, резко села на скамейке и посмотрела ничего не понимающими глазами на светловолосую девушку, стоящую перед ней. Кто это, что происходит, где она вообще находится?!
– Просыпайтесь, Соня. Вертолеты из Анадыря прилетели, – сказала девушка. – Будет два рейса подряд. Я еще ночью заняла очередь. Надеюсь, мы на одном из них в город и улетим.
Тут до Сони наконец дошло, что девушку зовут Таня, что они спали этой ночью на соседних скамейках в аэропорту и что происходит все это на Чукотке.
Удивительно, что она уснула так крепко, – ночью ей казалось, что она не уснет совсем. И не потому, что от твердой скамейки противно ныли бока.
Вот она и добралась до этой Чукотки, которая весь последний месяц одним своим названием заставляла ее вздрагивать. Вот она здесь – и ничего, кроме полной потерянности, растерянности и безнадежности, не чувствует. Герман не приблизился к ней ни на шаг – наоборот, Соня думала теперь, что, как только она оказалась в этих ледяных просторах, он отдалился от нее бесконечно и безвозвратно. Как если бы они с ним вместе оказались в космосе, крутились бы в жуткой черной пустоте каждый по своей орбите, без малейшей надежды на встречу.
Но несмотря на эти унылые мысли, она видела его перед собою яснее, чем видела реальных, в самом деле находящихся рядом людей. Вот хоть двух молоденьких чукчаночек с новорожденными, завернутыми в новенькие одеяльца детьми на руках. Чукчаночки спали, сидя на скамейках, и сон их был так же безмятежен, как и у их детей. А Соня вертелась на скамье, и глаза у нее не закрывались, как будто в них кто-то крошек насыпал.
От всех своих мучительных мыслей она чувствовала обостренную ясность сознания; это и не давало ей уснуть. Все, что было ее прежней жизнью, вставало перед нею так, будто происходило не давно и протяженно, а только что и разом.
Она словно со стороны видела какую-то девушку – красивую, неглупую, упрямую и при всем том совершенно... никакую. Девушку, которая ничего не хотела так сильно, чтобы этого добиваться. Которую жизнь не испытывала ничем, потому что в ней не было ничего, достойного испытаний. Которая была уверена, что любви не существует, и не искала ее, потому что была на нее неспособна. Которая производила на окружающих впечатление некой даже загадочности, но лишь по одной причине: жизнь ее была настолько неясной, что словно бы окружала ее красивым размытым ореолом.
«И это была я? – бессонно думала Соня. – То вялое, никчемное существо была я?!»
От этих мыслей ее охватывал такой ледяной ужас, что с ним не могла сравниться даже мертвенная северная стужа. Спасало лишь то, что она как будто видела себя со стороны и видела все несходство себя прежней с собою нынешней. И даже знала, где проходит граница этого несходства.
Этой границей была – Москва. Москва словно навела ее взгляд на резкость, и в этой беспощадной резкости нового взгляда и жизнь предстала перед Соней новой, и все, что она делала со своей жизнью, она стала делать по-новому тоже.
И главным знаком новизны ее сознания стала способность сомневаться в себе и в своих действиях.
«Как наивен ваш прагматизм, Сонечка, – вспомнила она. – И как вы уверены в его состоятельности! Ничего, жизнь еще покажет вам свое жало и свои ценности. Вы девушка сообразительная, разберетесь».
Он был прав, этот неведомый человек, возникший в ее жизни лишь на мгновение, как фантом, но так много в ней переменивший. Жизнь действительно показала ей и то и другое, и наивность прежней самоуверенности была теперь Соне понятна. Но что делать со своим новым пониманием, что делать с болью, которую вызывает в сердце прямое и честное прикосновение к жизни? Этого она не знала. И была уверена, что от этого смешения боли и растерянности не уснет всю ночь.
Но – уснула и, проснувшись точно таким же темным, как ночь, утром, чувствовала себя до того разбитой и вялой, будто грузила мешки с чем-нибудь бессмысленным, с песком, что ли.
Но обращать внимание на такие мелочи, как состояние собственного тела и ума, было сейчас некогда. Соня наскоро умылась в туалете – в аэропорту был и душ, но ждать очереди в него было уже некогда, – и побежала в другой аэропортовский зал, в тот, из которого пассажиров отправляли вертолетами в Анадырь.
Сонины ящики были туда уже доставлены. Таня встретила каких-то своих знакомых – да и едва ли не все здесь были так или иначе знакомы друг с другом, – и те помогли их перенести. Будь все это в Москве, Соня не поверила бы, что такое вообще возможно. Кто тебя заставлял тащить на край света багаж, который не можешь даже от пола оторвать? Никто не заставлял. А раз все-таки притащила, то и возись с ним теперь сама.
Так рассуждали бы в Москве. Но здесь, на Севере, логика жизни была другая, и простая, мимоходом производимая незнакомыми людьми помощь уже казалась Соне чем-то само собой разумеющимся. И сама она даже не заметила, что, идя в вертолетный зал, несет сумку какой-то женщины, а та, держа обеими руками колыбельку с младенцем, шагает рядом.
Но когда Соня увидела зал вылета вертолетов, то все же усомнилась в том, что ей удастся доставить Лавровы картины в Анадырь.
Зал этот был заставлен, заполнен, забит багажом от пола до потолка. Высились коробки с телевизорами и еще какой-то домашней техникой, ящики с фруктами, тюки с зимней одеждой, связки и пачки самых разнообразных размеров... Кто и в какой вертолет все это сумеет втащить, Соня не представляла. И еще меньше представляла, как будет втаскивать в вертолет свой собственный багаж. Ясно же, что теперь-то уж ей никто не поможет: у всех своих забот хватает.
Через полчаса выяснилось, что она опять ошиблась. Ее ящики поплыли по летному полю так же споро, как и весь остальной багаж. Кому и что принадлежит, было уже непонятно, все передавалось из рук в руки, забрасывалось в вертолет поочередно, и при этом оказалось даже, что в салоне каким-то загадочным образом осталось место и для пассажиров.
Соня ни разу не летала на вертолете, да еще в метель, которая, пока грузили багаж, уже разыгрывалась снова. Вчера, когда она впервые узнала, что ей предстоит такой полет, то подумала, что испытает при этом если не панический ужас, то хоть какой-то страх. Но сегодня, после всех пережитых волнений, после того, как она приготовилась провести месяц на скамейке в аэропорту, – радость от того, что ей все-таки удастся добраться до Анадыря, оказалась так велика, что места для страха уже не осталось.

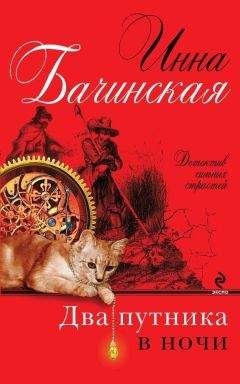
![Мила Бонди - Броситься в объятия мужчины [СИ]](/uploads/posts/books/5921/5921.jpg)

