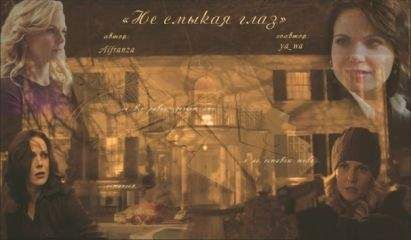Рейчел Пайн - Вверх по лестнице в Голливуд
С туфлями в руках, в полном изнеможении я ввалилась в номер и рухнула на постель, не сняв вечернего наряда.
С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Устраиваясь на работу в «Глориос», я представляла, на что иду. Компания славилась тем, что работать в ней нелегко. До меня доходили слухи, что в «Глориос пикчерс» даже существовал свой аналог «двенадцати шагов» [1]: бывшие работники компании собирались где-то в пригородах Нью-Джерси. «Анонимные глорики» либо и вправду были вполне анонимными, либо являлись чистым вымыслом, так как впоследствии, когда я наводила справки, никто не мог подтвердить самого факта их существования. Тем не менее ходили легенды о блестящих молодых людях, которые приходили в «Глориос» полными сил и энергии, а покидали ее, едва понимая, на каком они свете. Но лично я предпочитаю истории с более счастливым концом: о двадцатичетырехлетних исполнительных вице-президентах с соответствующими этой должности окладами и количеством подчиненных; об ассистентке, так великолепно представившей свой собственный сценарий, написанный под псевдонимом, что через несколько недель ему уже дали зеленый свет; о секретарше, которая своими замечаниями и предложениями до того поразила режиссера, что ее сделали помощником продюсера. Что до меня, однако, то на работу в «Глориос» меня подвигли не столько слепые амбиции, сколько наука и искусство, устроившие против меня заговор.
До прихода в «Глориос» я около четырех лет работала в Си-эн-эн, в отделе рекламных исследований. Например, от меня могли потребовать сведения о том, сколько процентов аудитории Си-эн-эн склонны к «хронической или рецидивной» изжоге в настоящем или будущем. Деньги платили нормальные, мои коллеги были очень приятными людьми, а полугодовые отзывы начальства о моей работе выглядели просто прекрасно. На первый взгляд мое будущее было обеспечено, однако меня постоянно одолевали сомнения — на своем ли я месте? Но если работа и была скучна, то вечера и выходные проходили под знаком веселья. Светской стороной моей жизни руководили моя лучшая подруга Арабелла (начинающая актриса) и мой бой-френд Гейб (начинающий художник). В свободное время Арабелла постоянно таскала меня на кинофорумы или в театр «Уолтер Рид», а для Гейба было делом чести посетить столько открытий художественных галерей, сколько человек в состоянии вынести. Наша маленькая «банда четырех» — я, Гейб, Арабелла плюс молодой человек, с которым в тот момент встречалась Арабелла, — бегала по городу, пробуя все подряд: от оперы про Джеймса Бонда к слайд-шоу «Юриспруденция как искусство», а от слайд-шоу на «Экуус» [2]в постановке седьмого класса одной из самых «передовых» школ города. Мы посещали все, что предлагал нам Нью-Йорк дешевого или бесплатного.
Арабелла Томпсон была моей лучшей подругой с первого курса в Массачусетском университете. (На самом деле ее звали Абби, но после второго курса она вдруг решила стать Арабеллой.) Она увлекалась драматургией, а я — политологией, так что наши дорожки могли и не пересечься, если бы мы не оказались в разных командах во время дискуссии о «правде в кинематографе», устроенной в университете после выхода на экраны «Всей президентской рати». В тот вечер мы открыли, что спорить друг с другом интереснее, чем соглашаться с кем-то другим, и вскоре стали лучшими подругами. Ненасытная киноманка, Арабелла знала все едва ли не обо всех фильмах, когда-либо выходивших на экран, не говоря уже о звездах, режиссерах и продюсерах, и она же была ходячим справочником «Кто есть кто», когда речь заходила о кинематографической промышленности. К несчастью, она родилась в семье, насчитывавшей три поколения медиков, — и все они, даже давно почившие в бозе, оказывали на нее сильнейшее давление, настаивая на продолжении семейной традиции. Арабелла поступила в медицинский институт Джона Хопкинса, альма-матер Томпсонов, но тянула с учебой и не приступала к занятиям, так что могла посещать классы актерского мастерства и ходить на прослушивания в Нью-Йорке. В конце концов она неохотно признала, что если врачом она, безусловно, стать может, то сыграть его в телевизионной постановке ей не удастся никогда. А потому Арабелла переехала в Балтимор, где она должна была ближайшие двадцать лет (по крайней мере мне представлялся именно такой срок) играть роль прилежной студентки.
Мы условились проводить вместе как минимум один уик-энд в месяц — либо в Мэриленде, либо в Нью-Йорке, но очень скоро анатомия, физиология и гистология лишили нас этой возможности. К середине осени стало ясно, что один телефонный разговор в неделю уже удача. Речь Арабеллы теперь изобиловала не навязчивым обсуждением самородков из мира кино, а медицинским жаргоном и отвратительными подробностями вскрытия Ллойда — трупа, на котором она тренировалась. И еще — и это было самое грустное — она вновь стала Абби.
А потом мы с Гейбом сильно поругались в День благодарения. Гейб — неплохой художник, но совершенно не умеет себя подать. Он мечтает, чтобы его картины висели в художественных галереях и офисах гипотетических меценатов, но думает, что это свалится на него само, и продолжает жить случайными заработками. Незадолго до нашей ссоры он нашел работу на аукционе «Кристи». Устраиваясь туда, Гейб, конечно, рассчитывал наладить связи с ценителями искусства, но вместо этого оказался на складе: перетаскивал антикварную мебель и возил тележки. Уже через неделю он возненавидел свои обязанности и своего шефа, который вел себя так, будто сундуки Чиппендейла были важнее натруженной спины рабочих. Вместо того чтобы посочувствовать Гейбу, я предположила, что ему, наверное, уже пора менять свою жизнь — например, попробовать себя в коммерческих видах искусства. Гейб понял это так, что я вообще никогда не верила в его мастерство художника, и объявил, что уезжает в Кентукки к двоюродному дедушке, где будет жить на птичьих правах, но зато «беспрепятственно творить».
Все знают, что разбитое сердце можно вылечить, занимаясь всякой всячиной и не давая себе ни минуты передышки. Но я вдруг обнаружила, что мне плохо, когда рядом нет никого, с кем можно было бы провести время, поболтать и просто отвлечься. Я чувствовала себя брошенной и выбитой из колеи. Гейб и Арабелла внезапно исчезли с горизонта, и мне пришлось выискивать в своей жизни аспекты, которые можно было бы изменить. На предметном стекле микроскопа оказалась карьера.
В институте я была полна амбиций: я воображала, как получаю диплом и лечу с ним сломя голову, хотя и не вполне представляла, куда именно. Я овладела азами нескольких профессий, но нынешнее место в Си-эн-эн мне выхлопотала подруга подруги. Случилось так, что я занимала его гораздо дольше, чем намеревалась, — совершенно незаметно пролетели целых четыре года. Пусть Абби и распрощалась с мечтой, ее запасной вариант едва ли можно было считать обреченным на неудачу. А Гейб решил посвятить себя творчеству, в конечном счете поставив его выше дружбы. Я не без иронии подумала, что они знали, чего хотели, тогда как я, со своими чеками два раза в месяц, медицинской страховкой и кредитной картой, не имела об этом ни малейшего представления.