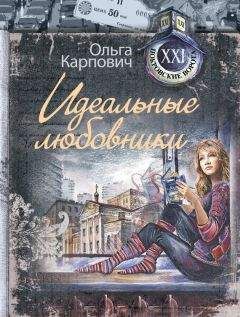Ольга Карпович - Моя чужая жена
— Ма-а-ам, — ноет Дима. — А мороженое-то… Ты обещала!
— Мороженое? — В пестрой вокзальной толпе мать замечает торговца мороженым. — А, конечно… Сейчас принесу.
Зина уже обосновалась в купе, заняла полки и теперь выглядывает из окна, сурово следит за своими подопечными.
— Зачем вам бегать-то? В ногах правды нет, — выговаривает она матери. — Проходите уж, а я принесу.
— Зина, да господь с вами. Что, меня утащит кто-то, что ли? — раздраженно возражает мать. — Расставляйте пока вещи, я сейчас вернусь.
Дима, стоя у дверей вагона, смотрит, как мелькает в толпе ее белое платье. Вот она уже у мороженщика, протягивает ему монетки, тот вручает матери вожделенный белый шарик. Дима сладко облизывается, предвкушая удовольствие.
Вдруг из-за угла здания вокзала появляются двое в светлых летних костюмах. Дима раньше никогда этих людей не видел, однако в горле у него почему-то пересыхает. Он судорожно хватается за никелированный поручень. Рядом, почуяв испуг хозяина, глухо ворчит Тим.
Мужчины подходят к матери, говорят ей что-то, подхватывают под руки и почти отрывают от земли. Мать, сразу как-то ссутулившись, сгорбившись, покорно следует за ними. Мороженое, выпав из ее руки, чавкает под ботинком одного из незнакомцев.
Дима потерянно опускается на железную ступеньку вагона, нагретый на солнце металл яростно жжет ноги. Тим принимается хрипло лаять, и один из мужчин, держащих под руки мать, озирается. И Дима мгновенно, словно повинуясь какому-то прежде незнакомому, недавно приобретенному инстинкту, зажимает псу пасть рукой, вталкивает его в вагон и прячется за зеленой дверью тамбура. Дима видит сквозь пыльное, захватанное пальцами окошко, как исчезает за стеклянными дверями белое платье матери.
Дима тяжело, прерывисто дышит. Он хочет заплакать, но слезы лишь давят где-то в горле, не желая проливаться. Тим шершавым розовым языком лижет его щеку. В вагон входят люди, бородатый дядька в соломенной шляпе прикрикивает на мальчика:
— Чего расселся здесь, на проходе? Зайцем хочешь проехать, что ли?
Дима с трудом поднимается, разминая затекшие коленки. И тут же прибегает Зина. Должно быть, тоже в окно видела, что произошло.
— Чего орешь на ребенка, оглоед! — сварливо кричит она на мужика.
И, обняв Диму за плечи, не говоря ни слова, ведет его в купе, сажает на застеленную полку, рядом на полу пристраивается Тим. Зина закрывает дверь купе, опускает штору на окне, садится рядом с Димой и приговаривает, прижимая к своему плечу голову мальчика:
— Батюшки светы, маленький! Мы с тобой ничем уже не поможем… ничем, кораличек мой!
По экрану побежали серые штрихи, стрекотание киноаппарата затихло, и слышно стало, как завозился в проекторной киномеханик, доставая другую катушку с лентой.
Аля, только сейчас почувствовав, как затекла спина, расправила плечи, потянулась. До сих пор она неотрывно смотрела на экран, забыв на время, где находится. Увиденное ее поразило. О тех временах не принято говорить вслух. Конечно, ей доводилось читать самиздат, по общежитию ходили время от времени замусоленные слепые перепечатки, и все студенты мнили себя немного диссидентами, когда шепотом рассказывали во время очередной пьянки политические анекдоты. Но чтобы вот так, на большом экране, открыто… Аля посмотрела на Дмитрия Владимировича. Он сидел, облокотившись на столик и сжав руками голову. Каким же отважным должен быть этот человек, раз решился показать такое. Каким бесстрашным, смелым. Тем более картина автобиографическая. Значит, пережив этот ужас, смог побороть его в душе, превозмочь и стать сильнее. У Али перехватило дыхание.
Завозились на своих местах и чиновники.
– Да, Дмитрий Владимирович, удивили… — протянул пузатый.
– Вы, Иван Павлович, может быть, весь материал посмотрите, а потом и поговорим, или этого достаточно? — резко спросил Редников.
– Посмотрим, посмотрим, не беспокойтесь, — протявкал вертлявый.
Иван Павлович лихо опрокинул стопку коньяку, закусил лимоном и, скривившись, произнес:
– Продолжаем просмотр.
Над колхозным полем занимается раннее утро. Небо начинает чуть светлеть над горизонтом. В темнеющем за кромкой поля лесу верещат звонкоголосые птицы. Блестят капли утренней росы на колосьях. Вдали, в овраге, клубится седой утренний туман.
На тропинке, ведущей вдоль поля, появляется Дима. Он сильно вытянулся, повзрослел. В лице меньше детской наивности, оно серьезнее, сосредоточеннее. Дима чуть хмурит брови, щурясь на первые лучи солнца.
Навстречу парню из-за кустов выходят трое деревенских мальчишек. Двое Диминого возраста, один — белобрысый, в продранной майке — постарше. Мальчишки преграждают Диме путь, старший, стоя в центре, сквозь зубы сплевывает под ноги. Вид у ребят воинственный, однако Дима их не боится. Они не вызывают в нем ощущения животного ужаса, необратимости, покорности. Нет, они свои, такие же, как и он, с ними можно драться. И даже, по возможности, победить.
— Куда попер, москаль паршивый? — начинает старший.
— Дай пройти, Василь! — огрызается Дима.
Завязывается обычная перепалка: ты кто такой, а ты кто такой? Мальчишкам, кажется, больше охота позадираться, чем лезть в драку по-настоящему. Утро слишком красивое, слишком тихое, ленивое. На поле опускается сонное марево занимающегося жаркого летнего дня. Вдруг один из парней бросает случайно пришедшую на язык фразу:
— Я б тебя поучил, да руки марать неохота. Матерь-то говорила, батько у тебя — враг народа… И ты такой же, вражина!
И все в одно мгновение меняется. Дима закусывает губу, на его скулах вздуваются желваки, судорожно стиснув кулаки, он яростно бросается на обидчика, цедя сквозь стиснутые зубы:
— Мой папа не предатель, он коммунист!
Василь угрожающе наступает на мальчика. Дима начинает непроизвольно пятиться — ему еще никогда не приходилось драться с таким взрослым и сильным противником. Сузив в змеиную щелочку глаза, Василь замахивается на Диму:
— На-кась, выкуси, вражиная морда!
Дима и сам сразу не понимает, что произошло. Золотисто-коричневый вихрь, метнувшись от старого поваленного дуба, рвется вверх и катится по траве, увлекая за собой ошалевшего от испуга Василя.
— Хлопцы! Волк! Помогите! — хрипит полузадушенный обидчик.