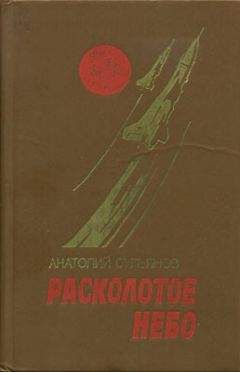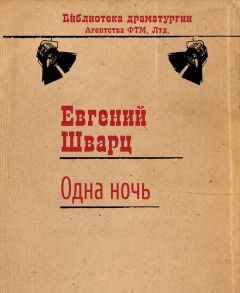Татьяна Булатова - Три женщины одного мужчины
– На работе мне сказали, что приходила твоя дочь. И ты ушел с нею. Я еще подумала, что-то случилось. Может, кто-то умер…
Вильский разжал руки.
– Не кто-то. Отец.
Люба передернула плечами, как будто хотела стряхнуть с себя что-то лишнее.
– Жалко, – сказала она, а Евгений Николаевич приготовился к тому, что жена спросит: «А что случилось? От чего?».
– Есть будешь? – Любовь Ивановна подошла к плите и сняла с кастрюли крышку. – Я солянку сварила.
«Ей все равно», – промелькнуло в голове у Вильского.
– Похороны в четверг. Ты не ходи, – попросил жену Евгений Николаевич.
– Я и не собиралась, – бросила Люба. – Зачем?
Вильский растерялся.
– Я с твоим отцом даже знакома не была.
– Я с твоим тоже, – автоматически ответил Евгений Николаевич.
– Он умер, – прошелестела Люба и достала половник. – Так будешь или нет?
– Когда?
– Сейчас, – объявила Любовь Ивановна и уставилась на мужа, явно прочитав в его вопросе не тот смысл.
– Умер когда? – Вильскому неожиданно стало интересно, как Люба пережила это событие.
– Давно.
– Ты ничего о нем не рассказывала, – отошел к окну Евгений Николаевич и посмотрел вниз – тускло горел только один фонарь из пяти. «Экономят», – решил он и повернулся к жене.
– А зачем? – задала свой коронный вопрос Люба и потрясла половником: – Ну что?
– Не буду, – наконец-то Вильский поймал волну, на которой находилась его жена. – Выпью чаю – и спать.
Любовь Ивановна включила газ, поставила на плиту чайник и села напротив мужа.
– Будет еще один покойник. Или два, – буднично проговорила она и приоткрыла крышку заварочного чайника, чтобы удостовериться, есть ли в нем заварка.
– В смысле? – опешил Евгений Николаевич.
– Бог троицу любит. Примета такая.
– Какая? – выдавил из себя Вильский.
– Смерть одна не приходит. Говорят, если в течение сорока дней после смерти первого умирает второй, то жди третьего…
– Чушь какая! – возмутился Евгений Николаевич и в раздражении выключил начинавший закипать чайник.
– Ничего подобного! Пусть сначала сорок дней пройдет, а потом будешь говорить, чушь или не чушь, – рассердилась Люба, а потом вспомнила про чай.
– Не буду, – отказался Вильский и заперся в ванной.
– Как хочешь, – пожала плечами Люба и отправилась стелить постель.
К сожалению или к счастью, она не испытывала никаких чувств из числа тех, что лишают человека покоя. Последний раз Люба видела свою мать, когда они с Краско собирались уезжать из Перми в Верейск. Все остальное время Люба Краско благополучно обходилась без ее советов и пугающих вздохов: хватало редкой переписки и обмена не менее редкими посылками. По большому счету Любовь Ивановна и в этом не особо нуждалась: просто так было правильно.
Страданий Вильского по поводу разрыва с отцом она не понимала и не принимала, считая их непозволительной роскошью людей, купающихся в благополучии. Ее жизнь до встречи с Евгением Николаевичем проходила под знаком выживания. Бед и проблем ей и так хватало с лихвой. До чужих ли страданий?
В отношениях с Вильским Люба всегда руководствовалась принципом автономного счастья, поэтому легко отгоняла прочь все, что так или иначе могло омрачить ее существование. Иногда, правда, мешала Юлька, но с материнским началом в себе Любовь Ивановна научилась справляться во многом благодаря жесткости Вильского, декларировавшего, что жить нужно здесь и сейчас, без оглядки на детей и родителей, потому что жизнь – она одна. Вот и будь любезен позаботиться о себе.
Недалекая Любовь Ивановна, скорее всего, не понимала, какова подлинная цена таких целевых установок. Она искренне считала, что Евгений Николаевич абсолютно свободен от скорбей и радостей человеческих, особенно если они не связаны с самым близким кругом, под которым она понимала себя и мужа.
Прожив в браке с Вильским чуть больше двух лет, Люба уверовала, что безрадостная половина ее жизни справедливо сменилась счастливой, и третьего им с Женей не дано, потому что по всем подсчетам доживать они будут бок о бок до самой старости в любви и согласии. Аминь.
Примерно об этом пытался думать и Вильский, методично водя электробритвой по квадратному подбородку, но сегодня это получалось хуже, чем обычно, потому что перед глазами всплывала панцирная сетка кровати, на которой умер Николай Андреевич, со свернутым за ненадобностью грязным больничным матрасом.
– Ложись спать, – поскреблась за дверью Люба и тут же ушла, не дождавшись ответа.
Евгений Николаевич лег в постель чисто выбритым, в любовно выглаженной женой пижаме, но с ощущением того, что жизнь раскололась надвое: до смерти отца и после.
– Не расстраивайся, – попробовала успокоить его Люба и прижалась к плечу. – Рано или поздно все равно бы случилось.
– Лучше бы поздно, – не поворачивая головы в ее сторону, глухо ответил Вильский.
– Зато дальше будет жить легче, – неумело попыталась поддержать мужа Люба.
– Кому? – усмехнулся Евгений Николаевич.
– Тебе, – уверенно произнесла она.
– Послушай, Любка, ты просто не понимаешь… Чем дальше, тем тяжелее…
– Откуда ты знаешь? – усомнилась в его словах Любовь Ивановна и поцеловала Вильскому руку. – И это пройдет, – пообещала она, устроившись поудобнее.
Евгений Николаевич выключил свет.
– Это не пройдет никогда, – проронил он в темноту. – Знаешь, как он меня воспитывал?
Люба молчала.
– Хочешь, расскажу?
Любовь Ивановна не сказала «хочу», только эхом повторила: «Рассказывай». Но Вильскому было по большому счету неважно, хочет она слушать или нет. Он просто заговорил, непривычно для себя многословно, перечисляя детали, вспоминая яркие впечатления детства, за которыми стоял всегда строгий отец. А сейчас оказалось, что совсем и не строгий, а чуткий и сдержанный, боявшийся в суете обронить ценное слово.
Евгений Николаевич даже не замечал, что плачет: слезы стекали от виска к уху, оставляя на коже неровные мокрые полосы. Но Вильский не останавливался, пытаясь не упустить ничего из своей счастливой детской жизни, а Люба, убаюканная рассказом мужа, мирно посапывала рядом.
– Любка, – прошептал, всхлипнув, Евгений Николаевич, думая, что та внимательно его слушает. Но слова Вильского потонули в черной пустоте комнаты. Вот тогда-то Евгений Николаевич впервые почувствовал, как узок его рукотворный круг, в котором есть место только для него и для Любы.
Важность этого открытия тело Вильского осознало раньше, чем родилась простая, но исчерпывающая формулировка. Евгений Николаевич с ужасом ощутил момент, когда в груди перестало биться сердце: оно просто встало и не подавало признаков жизни. Лоб Вильского покрылся испариной: «Неужели я следующий?» «Нет, нет, нет! – застучало сердце и понеслось вскачь, приговаривая: – Дел много, дел много…»