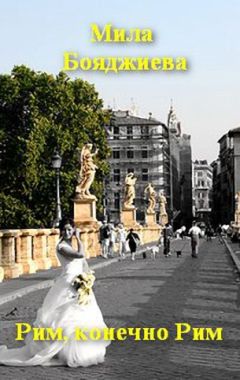Людмила Бояджиева - Сладкий роман
— Дикси, это очень дешево, а свои франки тебе придется поменять в отеле. Они здесь не пойдут.
Он протянул старухе купюру в обмен на огромную охапку чудесных, полем и летним днем пахнущих цветов. Я погрузила лицо в букет. Старушка закивала и заулыбалась беззубым ртом, шамкая непонятные слова.
— Она говорит, что тебе только в васильках и жить — настоящая деревенская красавица.
Пока мы разбирались в происхождении русского, английского и французского названия этих цветов, Майкл вывел меня к высокому обелиску из черного мрамора с выбитой пространной надписью. Земля за чугунной витой оградой с морскими якорями в центральных овалах была посыпана светлым песком, в кольце для букета красовались две свежие гвоздики.
— Исторический памятник. Охраняется государством, — указал Майкл на табличку. — Вообще-то вчера здесь было несколько меньше признаков государственной заботы. Директриса постаралась. Слава Богу, спасибо всем, кто старается, по душе или в корысти, по страху или доброй воле… Спите спокойно, Арсений Семенович. Возможно, любимое вами Отечество все же выживет. А сейчас ваша неведомая праправнучка возложит цветы, а праправнук сыграет вам, как может.
Я положила на черный камень свой летний букет, а Майкл, присев на корточки, стал рыться в сумке. Наконец, на свет была извлечена блеснувшая темным глянцем скрипка, осмотрена, приложена к плечу. Взлетел и замер в раздумье смычок.
— А что сыграть?
Я пожала плечами, обескураженная сюрпризом.
— Ну, ладно! — Майкл привычно тряхнул несуществующими кудрями и с налету тронул струны смычком. А потом нежно повел им, едва касаясь и сдвинув брови, словно это влияло на звук.
Мои детские бренчания на фортепиано не оставили ничего, кроме нескольких имен композиторов, соседствующих в памяти с воспоминаниями о не слишком увлекательных уроках. Последующие годы мало прибавили к моему музыкальному образованию. Названия популярных опер, личное знакомство с модными певцами и композиторами, несколько посещений симфонических концертов — вот, пожалуй, и все, чем я могла бы похвастаться. Мне вряд ли удалось бы отличить виртуоза от выпускника музыкальной школы, но здесь — в подвижной полутени старых деревьев, у насупленного молчаливого обелиска, творилось что-то невероятное. Скрипка Майкла жила своей, особой, надрывающей душу жизнью.
«Ave, Maria»! Мне всегда хотелось плакать от этих звуков, посланных в вышину или льющихся с неба — не разберешь… Но в такие моменты ощущаешь себя причастным к Вечности, крошечным, но очень важным её составляющим. Не какой-то там «формой существования белковых тел». Любимым детищем. И прекрасным. Я засмотрелась на Майкла. Дорогой мой Микки, не зря охраняла бабушка твою мальчишескую жизнь от дворовых футболов, ребяческого резвого пустозвонства — ты стал великолепен, маленький затворник!
Звуки смолкли и посыпались аплодисменты. У нашей оградки собралось человек десять случайных посетителей, среди которых была и краснолицая уборщица с каким-то ведьминым помелом, и пьяненький бродяжка, и знакомый нам бухгалтер. «Еще, еще!» — завопил пьяненький. А бухгалтер вежливо вопросил: «Господин Артемьев, будьте любезны… Огласите… так сказать, обитель скорбных теней своим высоким искусством». (Это мне так показалось по выражению его круглого, светло улыбающегося лица.)
Майкл не упирался. Сыграл что-то очень печальное, плачущее, скорбно-прекрасное, и кивнул мне:
— Это известный русский, вернее, советский композитор Шостакович. Музыка к кинофильму «Овод». А напоследок — оптимизм! Развернувшись к монументу, он произнес:
— Когда вы были юнгой, дорогой капитан, вам не пришлось лазать на реи под эту музыку, вдыхать солоноватый воздух странствий, напоенный этими звуками. Но ведь музыка вечна. А значит, вы слышали её своим храбрым сердцем, она звала и вдохновляла вас, уважаемый юнга Арсений Семенович.
Все это Майкл сказал для капитана и меня, по-английски, но скрипку держал наготове, и «публика» не расходилась. Тогда он объявил: «Дунаевский. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта».
От свежего порыва этой дерзкой, рвущейся в неведомые дали к простору и счастью музыки, у меня по спине побежали мурашки. Так реагирует моя кожа, когда душа прикасается к чему-то настоящему. То же, вероятно, чувствовали и другие. Уборщица прослезилась, горестно опершись на метлу, а когда Майкл оторвал от струн смычок и быстро поклонился, тряхнув «кудрями», грянули аплодисменты.
Около нас собралась приличная толпа, не желавшая расходиться.
— Прошу прощения, я спешу. У нас ещё один визит. — Майкл спрятал инструмент и, подхватив меня под руку, быстро увел в лабиринт тенистых аллей.
— А это — предок барона фон Штоффена. — Советник по вопросам градостроительства при господине Лефорте. Замок Вальдбрунн на его капиталы построен, да и по его проекту. Он нам Белую башню наследовал, а мы ему шиш!
— Майкл, я опять забыла про свой чемодан. Тащи его сюда, только не урони. Уже в аэропорте намучилась — оформляла как особо ценный груз.
— Так провозят бомбы.
— Тащи, тащи. Пора устроить фейерверк.
Я присела на каменную скамеечку у роскошного, но сильно обветшалого надгробия, изображавшего открытую книгу, где по мраморным страницам было что-то начертано готическим шрифтом. Из-под книги виднелся каменный свиток с планом и часть какого-то инструмента, очевидно, астролябии. Кружевная вязь букв на большой плите почти стерлась и я нагнулась, чтобы разобрать даты. Ого! 1663–1718. Прекрасная карьера для сорока пяти лет!
Майкл вернулся с чемоданом, нарочито изображая утомление. Я-то знаю точно — всего двадцать килограмм весил бронзовый венок, заказанный мной в художественной мастерской Перлашез. На обвивающей лавры ленте выгравированы наши с Майклом имена и цитата из Библии. Что-то о вечной памяти и вечном покое.
— Здорово! Вот куда идет наше общее наследство. Этот веночек стоит, наверно, целое состояние.
— Неужели я выгляжу нищенкой?
— Ах, Дикси, правда, твой сувенир очень подходит к надгробию… Но ведь его стащат. Придется приковать цепью.
— Как это стащат? Украдут? С кладбища?
— Милая, милая моя! Покоящемуся здесь господину, к несчастью, так и не удалось внедрить немецкую щепетильность в душу русского народа.
— Ведь он прожил всего совсем не много! А если бы дотянул до восьмидесяти… как знать!
— Шустрый парень! Наверняка, начал с восемнадцати. Хотелось бы пожать его крепкую руку: прибыть в Россию с почти что нравственной миссией. Строить каменные дома вместо курных изб… Спасибо, брат, отличный пример. Мы с Дикси не дадим погибнуть твоему лютиковому имению. Не распродадим, не спалим, не превратим в пристанище разврата, не бросим на растерзание взбунтовавшихся плебеев, если в Австрии случится коммунистический переворот.