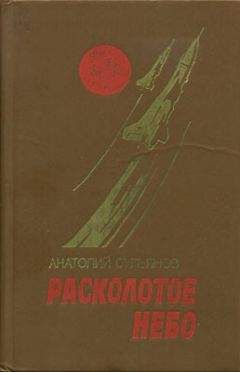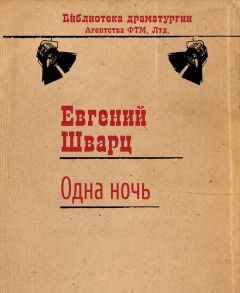Татьяна Булатова - Три женщины одного мужчины
Любовь Ивановна моментально почувствовала взгляд мужа, грациозно поднялась с пола, подошла к злополучной стене, предназначенной Вильским для книг, и, улыбаясь, прошелестела:
– Делай как знаешь, Женя. Хочешь книги – пусть будут книги. Мне все равно. Лишь бы тебе нравилось.
– А ты? – больше для приличия поинтересовался Евгений Николаевич.
– А я как ты, – заверила его жена, и Вильский на какое-то время почувствовал себя на седьмом небе от счастья.
Уж что-что, а гасить конфликты, в отличие от Желтой, Люба умела виртуозно. Причем непонятно: то ли этому научила ее жизнь с первым мужем, то ли это была какая-то особенная черта характера. Как бы то ни было, ссор в новой семье Евгения Николаевича практически не было. А то, что случалось, и ссорой-то назвать сложно, потому что конфликт никогда не доходил до кульминации и обрывался где-то на середине. Это Вильского и радовало, и огорчало. Радовало, потому что практически всегда получалось так, как хотел он. Огорчало, потому что оставался какой-то невнятный осадок, горькое послевкусие, из-за которого Евгений Николаевич периодически сбегал из дома в гараж, где часами наводил порядок, перекладывая гвозди из одной банки в другую или перелистывая подшивки старых журналов.
«Все-таки муж с женой должны ссориться», – размышлял Вильский и сортировал гвозди по величине, вспоминая битвы с темпераментной Желтой. При этом память вела себя как-то странно: все, что было связано с развитием конфликта, с максимальным эмоциональным напряжением, обидой, злостью, оказывалось стертым, как будто и не существовало. Зато вспоминались эпизоды примирения и возникавшее в этот момент облегчение. И тогда Евгению Николаевичу казалось, что здесь, в гараже, ему дышится по-другому: легко и свободно, как в лесу. Длилось это недолго: уже через секунду Вильский начинал улавливать характерные гаражные запахи вперемешку с теми, что доносились из погреба. Пахло подгнившей картошкой. «Надо перебрать», – подумывал Евгений Николаевич, но так и не решался спуститься вниз.
Мысль, что любая перепалка с Любкой заканчивается ее полной капитуляцией, не давала Вильскому покоя. Категорический отказ жены обсуждать ту или иную проблему теперь воспринимался Евгением Николаевичем не в свою пользу. За легкостью, с которой Люба показывала, что конфликт исчерпан, что его просто нет и между ними быть не может, Вильский видел странное равнодушие супруги ко всему, что его волновало.
И здесь он был прав и не прав одновременно. Упрекнуть Любу в безразличии к нему как к мужчине было нельзя, но, позже признавался себе Евгений Николаевич, как личность он ее в принципе не интересовал. Ей не было дела до его жизненной позиции, отношения к миру, к людям. По большому счету ее совершенно не волновало, что в интеллектуальном плане между ней и мужем – огромная пропасть. Любовь Ивановна искренне считала, что в браке это не главное, а сам Вильский бодро и уверенно декларировал: «Образованная женщина – беда в доме».
На самом же деле, как только миновали временные трудности ремонта, вместо долгожданного удовлетворения Евгений Николаевич остро ощутил дефицит общения с людьми, равными ему по духу и интеллекту. И вроде бы новоселы жили в любви и согласии, но как будто в разных измерениях.
Любовь Ивановна наслаждалась созданным мужем комфортом, а Вильский ощущал себя в психологическом и интеллектуальном вакууме. Казалось бы, к общему знаменателю подведены все основные слагаемые счастливой жизни: любимая женщина, новая благоустроенная квартира, долгожданная автономность от близких и неблизких родственников. Все, о чем они с Любой мечтали, скрываясь от внешнего мира в обшарпанных номерах районных гостиниц.
«Почему же так? – истязал себя Евгений Николаевич, тараща глаза в темноту: с недавних пор сон бежал от Вильского, как черт от ладана. – Все же правильно: я и она, она и я. Вдвоем. Никого больше. Почему? Что мешает?»
Евгению Николаевичу обязательно хотелось найти ответ, который бы помог ему справиться с нахлынувшей тоской. Но вместо него возникал новый вопрос, а за ним – еще один. И так продолжалось почти до самого утра, пока жестокий Морфей в качестве компенсации за ночные терзания не посылал Вильскому два-три часа отдыха.
– Ты плохо выглядишь, Рыжий, – забил тревогу Лев Викентьевич, принимая от друга очередную часть долга.
– Нормально, – отмахнулся Вильский и заторопился уйти, чтобы ничего не объяснять.
– Расскажи об этом своей маме, – не поверил товарищу Левчик и проникновенно добавил: – Может быть, ты хочешь об этом поговорить?
– О чем? – хитро прищурился Евгений Николаевич и замер в ожидании: вдруг Рева нечаянно сформулирует то, над чем он сам мучительно размышляет ночами.
– О том, что так тебя волнует, – дипломатично изрек Левчик, а Вильский в который раз признался, что прозвище Соломон необычайно подходит его школьному другу.
– Тебе и правда интересно, Лева?
– Конечно. – Лев Викентьевич важно кивнул головой.
– Тогда слушай, – печально заговорил Евгений Николаевич. – В последнее время меня особенно волнуют основные параметры экологического права, отраженные в Декларации Рио-де-Жанейро… Как ты думаешь, Лева, не повредит ли это стратегическому развитию Долинского научно-исследовательского института атомных реакторов?
– Думаю, нет. Но то, что эта Декларация самым непредсказуемым образом повредила мозг моего лучшего друга, я могу утверждать с полной ответственностью, – не остался в долгу Лев Викентьевич. – Я серьезно, Рыжий. Давай поговорим.
– О чем? – Вильский опустил голову.
– Обо всем, – вывернулся Левчик. – Знаешь, возраст у нас с тобой такой, что невольно приходится с ним считаться: сердце там, лишний вес, бесплодие…
– Импотенция, ты хочешь сказать? – уточнил Евгений Николаевич.
– С ума сошел! – возмутился Рева, яростно отстаивающий свое эксклюзивное право считаться донжуаном. – Пока у меня есть руки, импотенция мне не грозит.
– А бесплодие? – усмехнулся Вильский.
– А бесплодие в моем случае – это гарантия справедливого решения вопроса о наследстве, – как в суде произнес Левчик, а потом разом сник и признался: – Знаешь, Женек, я в последнее время все чаще о смерти думаю. Вот не хочу думать, а думаю.
– Я тоже, – тихо произнес Евгений Николаевич.
– Боишься? – с надеждой, что не он один такой, поинтересовался Лев Викентьевич.
– Нет, не боюсь, – отказался вступать в союз Вильский. – Просто думаю. Согласись, странно: все будет, а меня нет. Но где-то же я есть?