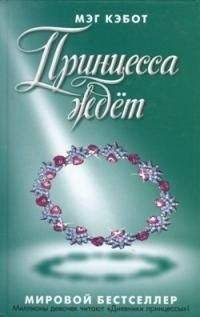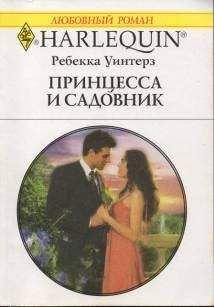Марина Мареева - Принцесса на бобах
Ее приятели добренчали свое. Тогда она встала со своего ящика и запела. Дима остановился, вернулся и замер шагах в десяти от нее.
Рыжая пела «Ямайку». Голос у нее был пронзительный, сильный, мальчишески хрипловатый. Она пела, полузакрыв глаза, и было ясно, что ей наплевать на всех и на все. Она пела с наслаждением. С драйвом. Для себя самой. Дима в этом понимал. Знал, что такое — настоящий драйв.
Рыжая допела, сорвав аплодисменты зевак. Дима выждал немного и подошел к ней вплотную. Помолчал. Он не знал, с чего начать. Не знал, что он ей скажет.
— Как тебя зовут? — спросил он наконец.
— На «вы», пожалуйста. — Рыжая не удивилась. Привыкла, наверное. Видно, к ней часто вот так подходили. Говорили прочувствованные слова, совали в руку скомканные деньги. — Лара.
— Хочешь, я тебе помогу? — спросил он не раздумывая. — У тебя классный голос. Ну что ты тут стоишь, мелочевку сшибаешь… С таким-то голосом! Обидно.
— Поможете? — Она прищурила светлые глаза. Ее дружки молчали, недобро поглядывая на Диму. — Это как? На каких условиях? Чего взамен? Я что, спать с вами должна? Нет. У меня другая профессия.
— У тебя никакой профессии, — возразил он спокойно и жестко. — Пока. Но если ты захочешь…
— Дмитрий Андреич!
Дима вздрогнул. Встряхнулся. Он стоял возле Лариного дома, рядом со своей машиной.
Охранник, окликнувший его, только что вышел из подъезда. Выражение крайней растерянности застыло на его широкой физиономии. В руках Владик держал всю ту же корзину с цветами. Поверх бутонов пестрело дамское шмотье.
Дима меланхолически оглядел его. Вот это платье он купил ей в бутике на Поварской. Две штуки баксов. «Видишь, котя? — вспомнил он Ларино умильное личико. — Я выбрала самое дешевенькое…» Шелковая шаль от Версаче… Белое платье для коктейлей…
— Шеф, она так кричала! — Владик убито глядел на хозяина. — Пусть, говорит, оставит меня в покое. Это про вас, шеф… И стала в меня тряпками швырять. Сапогом кинула, хорошо, я увернулся — там такая платформа! Пусть, говорит, заберет свои подарки…
Владик скосил глаза на свое правое плечо. Там покоилась, матово поблескивая, Ларина атласная блузка. Штука баксов, Армани.
— Не, ну тогда будь последовательной, да? Иди до конца, — хмыкнул шофер, выглянув из машины. — Кофточки вернула — квартиру возвращай. И тачку.
Дима свирепо глянул на шофера — тот умолк, покашлял пристыженно. Дима перевел на Владика насмешливый взор и сочувственно сказал:
— Знаешь, на кого ты сейчас похож?
— На кого? — спросил Владик, прижимая корзину к груди.
— На Этуша из «Кавказской пленницы». Помнишь, он от Варлей с подносом выходит? С гвоздикой за ухом? Вот так…
Дима подошел к своему стражу. Достал из корзины розу, брезгливо отодвинув в сторону Ларины тряпки. Заложил розу Владику за ухо. Отошел на шаг назад, любуясь делом рук своих.
Шофер подобострастно заржал. Владик попытался улыбнуться через силу — острый шипчик впился в мочку уха. Охранник терпел боль стоически — то ли еще вытерпишь ради хозяина?
— Поехали, — вздохнул Дима.
— А корзину куда? — спросил Владик растерянно.
Дима огляделся. У соседнего подъезда висела мемориальная табличка (дом был хороший, престижный, кооператив от Литфонда): «Здесь, с такого-то по такой-то годы жил поэт…» и т. д.
— Поди поставь ее к доске, — велел Дима, направляясь к машине. — Пииту — от благодарных потомков. Не зарастет, мол, народная тропа.
Владик кивнул и сорвался с места, но вспомнил про шмотки и оглянулся:
— А тряпки, шеф?
— Оставь. — Дима в последний раз посмотрел на Ларины окна. Они были наглухо зашторены. Все равно подглядывает, стерва, — в щелочку. Наверняка. — Оставь в корзине, — повторил он. — Это от меня наследникам. Наследницам. Давай живей! Едем.
Самый ненавистный звук на свете — пронзительный звон будильника.
Нина вскочила, села на постели, потянулась к своему мучителю, к подлому церберу, истязателю проклятущему… В самом деле, будильник был для нее почти живым существом. Такой маленький, самый дешевый, сорок семь тысяч рэ, сама его покупала, сама заводила по три раза в сутки… Последние годы Нинина жизнь была вечным недосыпом. Только-только начнешь задремывать — а он уже дребезжит садистски, этот чертов будильник.
Нина нажала на кнопку — садист умолк, утихомирился. Два часа дня. Нина вернулась с работы в восемь утра, уснула в десять. Теперь нужно было вставать и, торопливо перекусив на бегу, опрометью нестись в подземный переход на Проспекте Мира. В три часа дня Нина заступала на очередную трудовую вахту. У газетного лотка. Работа непыльная, через день, какой-никакой приварок к жалованью посудомойки…
Она подавила зевок, встала с постели и набросила халатик на пижаму… Посмотрела мельком на свое отражение в настенном зеркале.
Глаза бы не глядели! Кто поверит, что ей всего сорок? Кто поверит в то, что когда-то, каких-нибудь десять лет назад… Впрочем, десять — это не так уж мало. И все же, десять лет назад она считалась едва ли не первой институтской красоткой. И все бабы наперебой завистливо хвалили ее за дивный цвет кожи. Да, было, было… «Чем ты ее мажешь? Крем какой-то особый?» «Курить надо меньше», — смеялась Нина и отбирала у них сигареты…
Да… Десять лет назад. И мужики на улицах клеились, и в метро на нее поглядывали. Завкафедрой, кобелина еще тот, а поди ж ты! Пытался ухаживать всерьез, намекал: «Только скажите „да“ — разведусь, кафедру — под хвост, карьеру — туда же…» Нина смеялась, отшучивалась. Осторожно отводила его лапы от своих плечей. Нина была верной женой. Спасибо матери — воспитала по Домострою.
Нина включила свет в маленькой ванной. Умылась торопливо, снова посмотрелась в зеркало. Жуть! Хваленая кожа поблекла, подвяла. Под глазами — круги. Поспи-ка по четыре часа в сутки! В течение нескольких лет. Тут и Синди Кроуфорд в старуху Изергиль превратится.
— Ниночка! — Мать опасливо заглянула в ванную. — Ниночка, только не сердись!
— Ну? — Нина повернулась к матери. — Что стряслось?
— Нина, — вымолвила мать траурным тоном. — Телефон отключили. Даже не предупредили, скоты!
— Бо-оже! — Нина ринулась в кухню, в их тесную махонькую «хрущобную» кухню, где повернуться было негде. Сняла трубку с телефонного аппарата. Телефон был похож на инвалида трех войн, обмотан изолентой, как израненный вояка — бинтами. Нину подула в трубку, прислушалась — молчание. Глубокая контузия. Отключен.
— Это я виновата, — вздохнула мать с той же скорбной торжественностью. Старая лиса, она никогда ни перед кем не оправдывалась. Умела подать собственные прегрешения как деяния пусть не совсем достойные, но неизбежные, продиктованные суровой необходимостью. — Я не успела оплатить счет. Думала, дотяну до пенсии, заплачу из своих.