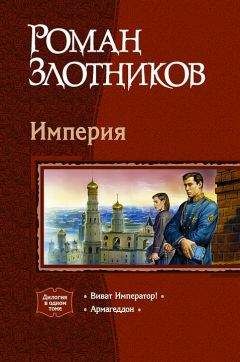Единственное число любви - Барыкова Мария
Конечно, через год я уже не стала проситься на телевидение и оказалась в газете, о чем сейчас не жалею. Я ответственный секретарь, у меня интересная работа, симпатичный кабинет… У меня есть муж, который очень меня любит и понимает с полуслова. Я его — тоже. Скоро мы отдадим дочь в школу… Может быть, история моего первого замужества покажется вам не стоящей того, чтобы прирастать к ней корнями, и я ее обычно не вспоминаю, но до сих пор храню тот набор елочных шариков, который купил для меня Кир. Я вешаю их на самые пушистые ветки — сначала их, а потом уже остальные игрушки.
Сейчас, пересказав все, что было, я пытаюсь понять, чем так взволновало меня «Единственное число любви». Если хорошенько подумать, оно действительно единственное: у каждого человека своя любовь — не важно, к кому и к скольким. У каждого своя способность любить. Эта способность — как путь, у нее есть начало и конец, а без начала не было бы конца. Сегодня я отмотала пленку своей жизни назад, вот на счетчике времени загорелась исходная отметка, и я жму Play, чтобы идти дальше своим единственным путем.
Глава 2
ОЛЬГА
Сквозь небрежно задернутые ситцевые занавески в комнату лениво вползал сочный желтый закат, стирая своим светом золотистые пятна вина, пролитого на расстеленную на полу простыню. Пол был гладок и от старости сух. Как расстроенный орган, он пел при каждом нашем движении. Мне нравились эти диковатые грустные звуки, что-то обещающие и что-то оплакивающие, а Максу — нет. Но я была старше его на пятнадцать лет и уже давно знала, что самое сладкое — это лишь обещание счастья, что сожаление порой ничуть не хуже того, о чем сожалеешь, и что по-настоящему счастливым можно быть только в неизведанном и непонятном. И потому гулкие вздохи соснового пола в полузаброшенной псковской деревне почти ласкали мой слух, исподволь вторя тем ощущениям, что будило во мне лежавшее рядом обнаженное юношеское тело.
Во мне жили барабаны и бранные флейты, под которые идут в бой смуглые янычары в шелковых шальварах, узлом завязанных на блестящих плоских животах; ласкалась прохлада воды со льдом, и, главное, ощущалась не так давно появившаяся женская взрослость, дававшая возможность не спешить, не гнать зверя в поту и крови — пока в висках обморочно не застучат серебряные молоточки, а губы не пересохнут безжалостно и страшно. С Максом можно было вот так уехать в глушь и днями лежать на промокших от любви и вина простынях, принимая ласки, как капли, — в час по чайной ложке…
Впрочем, это касалось, вероятно, только меня, ибо запавшие серые глаза и ставший пепельным рот моего возлюбленного говорили об ином. И когда, замкнув вокруг меня тугое и влажное кольцо рук, он начинал говорить, что любил меня всегда, что, почти плача от горячечного мальчишеского вожделения, мечтал о моем бесплотном теле еще десять лет назад, что никогда не мог договорить до конца, входя в меня торопливо и сбивчиво, с расширившимися от страсти зрачками. А я принимала эти порывы не прикрывая глаз и, улыбаясь, думала о том, что было бы гораздо умнее и физически пронзительнее сначала выговориться полностью, погрузив меня в непроходимый лес темных желаний пятнадцатилетнего, а потом брать, как в первый раз, стиснув зубы и задыхаясь от страха… Но это были мелочи — все вполне оправдывалось напором и сталью, жаждой и юношеской неутомимостью.
— Ты нестомчив [1], как породистая собака, — порой говорила я ему высший в моих устах комплимент. Я ужасно сожалела, что не взяла с собой в этот благодатный лесной край малышку Виа Виту, кровную сучку крапчатого пойнтера. Макс обижался, а я, быстрым игривым движением коснувшись его почти не отдыхающей плоти, убегала по скрипучей лестнице вниз, в заросший сад. Там я пряталась среди кустов черной смородины, становившихся к концу лета некрасивыми и обвисшими под тяжестью несобираемых ягод, словно беременные. Но он безошибочно, собачьим чутьем, находил меня, и лиловые пятна темнели на наших телах.
Иногда я брала его с собой на прогулки, и он не нарушал там моего упоительного одиночества, которое дарует только бескрайнее поле да дремучий лес, — в нем самом было еще много незагубленного, природного, идущего от нерастраченного. И я тратила его, щедро и не скупясь.
Через несколько дней зарядили дожди, запасы вина подходили к концу, и смородина стала падать с громким яблочным стуком, но гораздо более мерным, мелким и заунывным, наводившим тоску. Я капризничала. В общем-то я не любила этого вульгарного занятия, но Максу все еще было внове, и не дать ему этой новой игрушки — пусть и ненадолго — было бы неоправданной жадностью. Бедный, поначалу он полагал, что капризы можно ублажить телесным общением, не подумав о том, что капризы плотские бывают страшнее и мерзостнее капризов, так сказать, бытовых. Он обжегся, надулся и уполз в угол щенком, считавшим, что весь век будет только резвиться и грызть тапки, а оказавшимся жестко положенным на место унизительной командой «down» [2].
В этот раз я не взяла его с собой бродить под вялым солоноватым дождем, с радостью видя, как с запада собираются черные тучи, предвещающие грозу — а значит, и вспышку властной чувственности, и конец капризов, и новый поворот в отношениях. К дому я почти бежала, подгоняемая в спину плотными струями сгустившегося перед бурей воздуха. Было неправдоподобно тихо, все напряглось, как перед прыжком, и я с ликованием уже ощущала зарождающуюся в глубинах вулкана густую лаву, готовую грубыми толчками вытекать, сжигая и губя.
Но, с трудом открыв разбухшую от влаги дверь, я услышала наверху странные звуки, совершенно неуместные в одичавшем доме. Работал телевизор. Откуда и зачем Макс вытащил это страшилище, было непонятно, но серый экран светился призрачной стекляшкой, отбрасывая блеклые тени на обнаженную фигуру, вызывающе положившую пальцы на свою волшебную флейту. Флейта жила и пела, и ее музыка, ее цвет глянцевитой вишни открывали дорогу уже закипевшей, уже причиняющей боль лаве.
— Ты сошел с ума, — налившимися губами прошептала я, — что ты делаешь? Кто тебе позволил вытащить эту дрянь и смотреть?!
Макс невозмутимо пробежался пальцами сверху вниз и мрачно заявил:
— Я смотрю уже двадцать минут. Можешь тоже посмотреть.
Рывком сдернув мокрое платье, я скользнула глазами по маленькому экрану: вдоль резных домов по щемяще убогой и прелестной улице северного русского городка шли мужчина и женщина, и на их лицах отражалась та же щемящая прелесть невозможности. И, словно понимая это, камера уводила вверх, по неправдоподобно отвесному пожухлому склону за подгнившими домами, к бесстрастному небу. Что-то давно изжитое и грустное почудилось мне в скрипе экранных шагов по дощатому тротуару, и это раздражало, мешая тотчас затопить лавой дерзкую флейту.
— Что за ерунда? — почти со злобой спросила я, краем бедра уже касаясь ласкающих не меня пальцев.
— Почему же ерунда? — тихо ответил Макс и отодвинулся. — Это, между прочим, кадры из того самого нашумевшего «Единственного числа любви». Интервью со съемочной группой.
Кто-то недавно говорил мне об этой картине, но бешенство жадности, смешавшееся с желанием наказать столь очевидное непокорство, уже мутило мое сознание — и флейта скрылась в жерле вулкана, и запела иную, теперь подвластную только мне песню. И в тот же момент я увидела во весь экран забытую, чуть кривящую губы на левую сторону, улыбку — это был Кирилл. На мгновение захотелось услышать негромкий насмешливый голос, коснуться рукой густых волос… но гул извержения и крики погибающих заглушили едва различимые слова, и далекое стало близким лишь под утро, когда мое сражение было выиграно.
…Я очень ревниво относилась к этой четырехкомнатной хрущевке на проспекте Народного Ополчения. Я любила двух ее мальчишек, которых посылали за «Мальборо» в ближайший ларек едва ли не с пяти лет и которые говорили между собой, пересыпая речь цитатами из Платона; любила красивую, умную и ленивую хозяйку — любила до такой степени, что, возвращаясь к себе после долгих бесед, начинала так же, как она, капризно проглатывать «л». Но больше всего, разумеется, я любила хозяина, барственно-большого и… несчастливого.