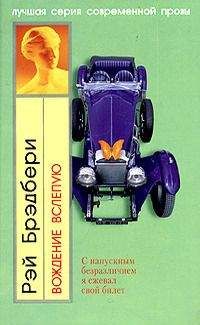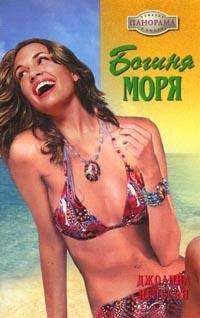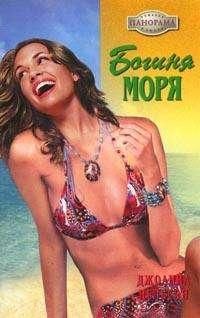Линда Грант - Все еще здесь
и, возможно, не пересплю до конца жизни — что, черт побери, я должна при этом чувствовать? Что это вообще за вопрос? Идиотский вопрос, на который и отвечать не стоит! Зачем копаться в моих чувствах? Это не неизведанная страна; я вам могу во всех подробностях описать, что я чувствую. Гнев. Боль. Отчаяние. Что тут еще исследовать? Черт возьми, нельзя же быть такой дурой!
По обоюдному согласию мы решили не продолжать.
Однако одну полезную мысль я у Вероники все-таки почерпнула (хотя и раньше об этом догадывалась): моя «ипохондрия» — не что иное, как подавленное сексуальное влечение. Либидо ищет выхода и, не находя, начинает проявлять себя самыми различными способами: в моем случае оно проявляется всевозможными болями, онемениями, одеревенениями, экземой на руках и ногах, судорогами во время месячных, кровоточащими деснами, долго не заживающими царапинами. Однако, если кто-то спрашивает: «Как ты, Алике?» — я автоматически отвечаю: «Прекрасно». Больше всего на свете я боюсь заболеть по-настоящему и все чаще хожу к врачу с одной-единственной целью — удостовериться, что я все еще здорова.
— Ты не рассказала ей о беременности? — спросила Марша.
— Нет.
— Почему?
— Не знаю.
Мне тогда было тридцать шесть. Ребенок — я так и не узнала, мальчик это был или девочка, — укоренился не в матке, как ему положено, а на полпути от яичника, в узком проходе, называемом фаллопиевой трубой. Слишком рано завершив свое путешествие, глупо, упрямо, самоубийственно застрял там, где ему быть не полагалось. Ничто не в силах остановить метаморфозы оплодотворенной яйцеклетки: она растет, меняет форму, образует голову и зачатки конечностей, сворачивается в запятую и все растет и растет, пока наконец стенки тесной кельи, так опрометчиво выбранной ею для жилья, не лопаются по всей длине, вплоть до яичника, откуда вышел ребенок, — и, уже умирая, он понимает, что где-то просчитался, что остановился слишком рано, что так и не дошел до своей Земли обетованной. Острая боль, озноб, холодный пот. Не могу стоять, дышу часто и неглубоко. В троллейбусе, после театра. Анестезиолог говорит: «Считайте до трех». На часах — 19-10. Один, два, тр… Я погружаюсь в темноту; из тьмы выплывают сны — безумная мешанина городов, многоэтажных зданий, линий электропередачи, шоссе. Холодно. Страшно холодно. Голоса: «Давление все падает». — «Принесите одеяло». В голосах паника. Кто-то умирает. Открываю глаза. На часах — 20:50. «Поставьте капельницу». — «Милая, руку поднять можете?» — «Да». Поднять мне удается только один палец, да и то ненадолго. «Больно!» В руку вонзается игла, и морфий растворяется в крови. Наверное, я умираю. А жаль…
Снова просыпаюсь уже в палате. Медсестра: «Хотите, мы позвоним вашему мужу? » — «У меня нет мужа».
Он появляется на шестой день. «И что же тебя так задержало?» — «Решил, что я тебе сейчас не нужен. Это ведь женские дела». Я отворачиваюсь — не хочу, чтобы он видел мои слезы. «Можно было сохранить?» — «Нет». — «Так я и думал. Что ж, наверное, оно и к лучшему». — «Я чуть не умерла!» — «Правда? Что ж, все мы рано или поздно там будем».
Мы снова встретились через полгода, на Сент-Мартинз-лейн, у оперного театра. Я толкнула его в грудь, он поскользнулся и упал на колени прямо в грязь. А я лупила его по голове своим портфелем.
Но это потом. А тогда, выйдя из больницы, я поехала к Марше.
— Ешь, — сказала она. — Ешь побольше. Тебе надо подкрепиться.
И я плюнула на фигуру и стала есть.
— Кто?!
— Сын Эрнста и Доры, из Америки. Наш единственный кузен.
— Никогда не слышала, что у них был сын.
— Я тоже не слышал.
— Мама никогда об этом не говорила. Как ты думаешь, она знала?
— Должна была знать. Этому парню около шестидесяти, значит, родился он в то время, когда она работала на ту семью в Стоук-Ныоингтоне. Бабушка и дедушка должны были ей сказать.
— И какой он?
— Типичная заноза в заднице. Едет сюда вместе с женой — жена тоже не подарок, моложе его, это второй брак. У меня от этой парочки уже в ушах звенит. За три часа позвонили три раза.
— И что теперь?
— Летят в Ливерпуль за своей долей наследства. Сначала этот урод потребовал, чтобы я тащился в Лондон и встретился с ним там, но я сказал: «Идите к черту. Это ваше дело, вот вы и бегайте, а я не собираюсь все бросать и ехать в Лондон только потому, что вы вообразили, будто на что-то имеете право». Они прилетают во вторник, и тебе лучше быть здесь.
— Знаешь, если честно, мне не хочется.
— Из-за Джозефа Шилдса? Да брось. Он, кстати, о тебе спрашивал. Похоже, не обижается.
— Он обо мне спрашивал? Что? Как?
— Ну, не знаю. Как живешь, чем занимаешься. Обычные вещи.
— Ты с ним об этом говорил?
— О чем?
— Сэм, бога ради!
— Ах, об этом! Нет. Зачем? Что тут вообще можно сказать?
— Ну, для начала мог бы спросить, зачем он ввел в заблуждение твою сестру.
— Ввел в заблуждение? И что это значит?
— Тогда сам скажи, что он себе думал?
— Алике, понятия не имею. Я не телепат.
— Вот именно. Я тоже. И чтобы выяснить, что думает другой человек, надо с ним поговорить.
— Послушай, ну неужели ты думаешь, я за все тридцать лет семейной жизни не целовался ни с кем, кроме Мелани? Бывало. И ровно ничего это не значило. И я понимал, и женщина понимала, что никакого продолжения не будет. Так, легкий флирт и больше ничего.
— Ух ты! С кем это ты целовался? А Мелани знает?
— Ладно, мне пора, у меня тут полная приемная наркоманов. Так ты приедешь или нет?
— Сначала скажи, с кем ты целовался! Я ее знаю?
— Скажу, если пообещаешь приехать.
— Приеду, если ты поговоришь с Джозефом Шилдсом.
— Послушай, хватит играть в игры, дело серьезное. Твоя личная жизнь меня не касается и, по правде сказать, совершенно не интересует. Ты ведешь себя как ребенок, когда же ты наконец повзрослеешь? Не понимаю, почему женщины не умеют отличать важные вещи от пустяков?
Спорим мы еще добрую четверть часа; наконец я соглашаюсь сесть на первый же поезд в Ливерпуль, а Сэм соглашается поговорить с Джозефом Шилдсом, когда увидит его в спортзале.
Накануне приезда Дорфов Сэм объясняет мне свою тактику. Главное, говорит он, — не умолкать. Пока я поливала герань во Франции, он выдержал немало боев в зале суда и твердо усвоил: пока он на ногах и пока процесс не окончен — ничего не потеряно. Даже в самый последний момент остается возможность выиграть дело.
— А потом эти юнцы бормочут «спасибо», едва ли понимая, за что благодарят, а их матери, разодетые ради такого случая в лучшие свои наряды — как же, ведь на них будет смотреть весь город! — поворачиваются к ним и говорят: «Вот видишь, я же тебе говорила, лучше мистера Ребика нет! Я помню его еще по беспорядкам в Токстете, тебя тогда еще и на свете не было. Тогда о нем каждый божий день писали в газетах, о том, сколько он сделал для Ливерпуля, как постоял за рабочий класс. А его отец — вот это был человек, настоящий святой!» И юнец возвращается домой, несколько дней валяется на диване перед телевизором, а потом откалывает очередную идиотскую выходку, и все начинается по новой.