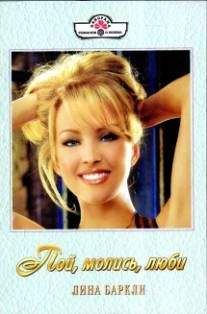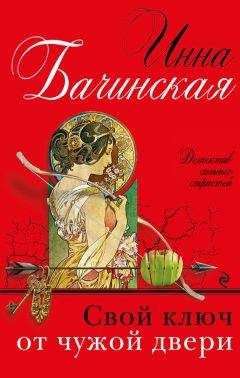Чужой портрет (СИ) - Зайцева Мария
Вопроса в его фразе нет, потому никак не комментирую. А Каз опять переводит взгляд на фото, кивает, жестко и грубовато усмехаясь:
— Любила его? Забыть не можешь?
— Не могу, — соглашаюсь я спокойно. И плевать в данный момент, как это звучит, что именно он услышит и поймет. Потому что, откричавшись, мне так легко теперь, и пустота заполняет все пространство тела, словно жидкий металл глиняную форму. Еще немного — и металл застынет, а глина разобьется за ненадобностью. Отслужит свое.
— Потому и не пускала к себе? — спрашивает Каз, все так же не глядя на меня. Только на фото, — потому бегала?
— Да, — опять соглашаюсь. Ведь это тоже правда. Именно потому и бегала. Именно потому и не пускала.
— Чем он лучше меня? — в голосе Каза тоже пустота теперь, такая близкая мне. И в глазах — пустота. — Тем, что мертвый?
— Да.
Боже, какие он правильные слова говорит! И какие, наверняка, неверные выводы из этого всего делает!
А я не хочу ничего говорить.
И рассказывать.
Потому что это будет оправданием, а мне не за что оправдываться.
— Марусь… — Каз наконец-то переводит взгляд на меня, и я мазохистски упиваюсь болью в них, совсем недавно пустых, мертвых… А сейчас слишком живых. Слишком. Нельзя здесь, на кладбище, с такими живыми глазами. Мертвые будут завидовать…
Я вот завидую.
— Марусь… — он неожиданно становится передо мной на колени, прямо на землю, его лихорадочно блестящие глаза оказываются на одном уровне с моими, кладет ладони на безвольно лежащие на коленях руки, и прикосновение обжигает. Только теперь понимаю, что пальцы у меня ледяные просто. Или это его — огненные. — Марусь… Ты так плакала… Любишь его все еще?
Он не услышал моих слов… Как он мог не услышать? Я же кричала… Или нет? Может, это я в сердце своем кричала, а в реальности…
Смотрю на него, так сильно хочется убрать со лба темную прядь волос, но не могу этого сделать. Его руки слишком горячие, а я слишком замерзла, чтоб сознательно лишить себя этого огня.
Он спрашивает, люблю ли я его… Боже…
— Я его ненавижу, Каз, — тихо говорю я, — ненавижу. И всегда ненавидела. Он — тварь. Я рада, что он умер.
Каз непонимающе моргает, сильные огненные пальцы на мгновение чуть сильнее сжимают мои.
Он обдумывает мои слова, затем переводит взгляд на фото. Опять на меня.
— Пошли отсюда, Марусь.
Я киваю, но не трогаюсь с места. Не могу. Сил нет. Так и сижу, смотрю на наши сплетенные пальцы на своих коленях.
И Каз понимает меня правильно.
Он встает и молча подхватывает на руки.
Это ощущается парением, словно я в колыбели лежу, безопасной, теплой-теплой…
Закрываю глаза, прижимаюсь к прохладному шелку темной рубашки, вдыхаю запах, терпкий, чуть звериный, мускусный запах мужчины, к которому я так и не успела привыкнуть…
Меня, словно ребенка, уносят прочь от места, где я оставила часть себя. Серьезную часть, которая казалась неделимой. А , оказывается, ее очень легко отделить. Надо лишь найти правильные огненные руки…
Глава 51
Каз наливает воду, подает мне, следит, чтоб я нормально взяла бокал, потому что руки до сих пор подрагивают.
Хорошо, что слез нет, все остались там, на стылом кладбище. И это правильно: нельзя плакать по этой твари.
Хотя, я же не по нему.
Я по себе больше.
По той беспечной Марусе, доверчивой, легкой, не ждущей от судьбы ударов. Та Маруся верила людям, летала, а не ходила. Писала чистые, мягкие акварели без единой мрачной тени, залитые солнечным светом пейзажи маслом, дымные нежные пастели… И переживала свою первую красивую, искреннюю влюбленность.
А еще она не строила планов, жила одним днем, умела находить вечное в сиюминутном. Именно ее мне чертовски жаль.
И неожиданно думается, что, если б Каз встретил меня тогда, вот такую, летящую, нежную и искрящуюся, то у нас все могло бы сложиться иначе… И , возможно, мой малыш был бы жив. И ему сейчас уже было бы полгодика…
Несложившееся колет сердце, и пустота глиняной формы окончательно заполняется. Металл твердеет.
Я чувствую себя живой.
Наконец-то.
Пью воду, ощущая, как режет горло. Так бывает, даже когда кричишь внутри.
Каз в самом деле не слышал моих слов, ни одного.
Именно потому мое сидение у могилы Алекса, мои однозначные ответы на его вопросы, так больно ударили. И, наверно, кто угодно на его месте этим удовлетворился бы, ушел. Потому что сколько можно бегать за сумасшедшей? Сколько можно терпеть ее поведение?
Если бы он развернулся и оставил меня там, на кладбище, умирать, я бы его поняла. И приняла.
Но он не умеет сдаваться. Он совершенно сумасшедший. Как и я. Мы нашли друг друга.
Отыскали в этом огромном мире, притянулись все-таки…
Он увидел похожую на меня девушку-художницу… Я — вздрогнула от его такого знакомого лица… Это невероятно, но так бывает. Еще и не такое бывает…
И вот сейчас мы сидим в номере гостиницы, который он снял на сутки, и разговариваем.
Неожиданно вспоминаю глаза девушки-администратора, когда Каз занес меня на руках в фойе гостиницы и отрывисто приказал найти номер.
Я в этот момент не могла адекватно реагировать на ситуацию, цеплялась за крепкую шею, словно за спасательный круг, прятала лицо на его груди, упиваясь терпким запахом, успокаиваясь, ощущая себя так правильно, так естественно.
Я не запомнила, как мы ехали сюда, в центр города, все словно в тумане пронеслось: дорога, машина, Каз пристегивает, мимолетно касается губами виска, меня бьет сладким током от этого, затем мелькающие за окном здания пригорода, остовы мертвых кораблей на отмели ушедшего моря, центр, остановка, опять его объятия, шепот: “Иди сюда”. И ощущение тепла и безопасности…
В номере он сажает меня на кровать.
Накидывает плед на плечи.
Не спрашивает ничего. Вообще.
Я сама говорю.
Медленно, не выбирая слов, именно так, как у меня в голове формируются предложения. Просто и естественно.
Я никогда не думала, что смогу хоть кому-то рассказать про… Это. И уж тем более мужчине. И уж тем более, мужчине, от тепла которого завишу.
Но, наверно, я и в самом деле перестала быть заготовкой, обретя металлическую стойкость. Или все дело в том, что прежняя Маруся так и осталась там, на кладбище.
Лежит сейчас у могилы этого подонка, пустая и хрупкая. Легко наступить подошвой, растереть, с грязью смешать.
Меня и мешали.
И я сама — мешала. Не сопротивлялась этому. Но теперь все по-другому. Где-то в глубине сердца есть понимание, что Каз после всего услышанного вряд ли будет относиться ко мне, как раньше. Все же, его нежная романтичная художница все меньше и меньше теперь становится похожей на меня, реальную.
Но больше я не буду ничего замалчивать.
Про насилие Каз слушает, склонив голову, избегая встречаться со мной взглядом. Только скулы каменеют, да щетина на них синевой отливает.
Когда говорю про выкидыш, случившийся после очередного насилия и избиения, Каз вскидывает на меня воспаленный взгляд, кривит губы и что-то тихо шепчет. Я бы хотела разобрать, что он говорит, но не думаю, что стоит это делать… Не для меня эти слова.
Про смерть Алекса слушает с легкой усмешкой, особенно, когда говорю про передоз и то, что нашли его на свалке городской. Голым.
— Собаке — собачье, — бормочет он, а затем подсаживается ко мне на кровать, натягивает повыше плед, упавший с плеч… Да так и оставляет ладонь рядом с шеей. Горячую такую, огненную. Правильно огненную. И я таю. Металл тоже умеет плавиться. Каз не стыдится ко мне прикасаться после всего этого…
— Надо было раньше сказать… — шепчет он, и я вскидываюсь, пытаясь объяснить, что не могла. Никому не могла!
— И мама не знала? — спрашивает Каз, поглаживая по плечу, притягивая еще ближе к себе. И металлическое тело послушно гнется ему навстречу, подстраивается под его огонь.