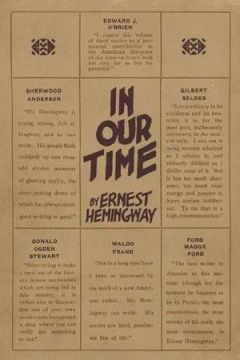Лариса Кондрашова - Умница, красавица
За те тридцать минут, что Соня и Алексей Юрьевич ехали по ночному городу от Таврической улицы до аэропорта, они могли бы тридцать раз помириться. Но они не умели мириться, потому что никогда не ссорились.
Как мириться? Легко, шутливо? Соня могла бы ущипнуть мужа за руку и сказать тоненьким детским голосом: «Мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться». И Алексей Юрьевич мог бы посмотреть на нее грозно и сказать: «Ну что, плохая девочка, не будешь больше?..» Но так мирятся лишь те милые, которые бранятся – только тешатся, а они так не умели. Тогда как? Торжественно? Встать на стул и всерьез попросить прощения?..
Сонины мысли были маленькие, испуганные, покаянные. Попросить прощения, немедленно снова стать хорошей – вот какие были ее мысли. Он сказал «кто хозяин в доме»… Ну, он хозяин и что?.. Чего не скажешь в ссоре, все это чепуха, шелуха…
Мысли Алексея Юрьевича были короткие и незлые. Женщины более эмоциональны, чем мужчины. Она сказала «сегодня не суббота», но… Не стоит придавать значения тому, что говорится в пылу эмоций. Нужно первым завести разговор о чем-то незначащем. И его благородство уже будет для нее достаточным наказанием за неуместную истерику.
Так они и ехали в аэропорт – молчали и хотели мириться. Головин больше, чем обычно, был похож на робота за рулем, да Соня и сама была как притихший робот, такая она была заторможенная. И ни один из них не произнес ни слова, не взглянул друг на друга, не улыбнулся, и это было странно и страшно, как все, что случается впервые.
В международном аэропорту все было сдержанных цветов – и интерьер, и люди, и чемоданы. Броня со своими зелеными и розовыми пластиковыми кошелками была видна издали – яркая, разноцветная, в подаренной американскими родственниками одежде, вся в люрексе, вся переливалась и блестела.
– Муси-ик, как ты вырос. – Броня поцокала языком и немного потискала бледного от неловкости ректора Академии Всеобуч, как будто он был малыш в коротких штанишках.
Алексей Юрьевич, как всегда, безупречно элегантный, в строгом сером плаще и шарфе на тон темнее, двумя пальцами взял из Брониных рук пластиковые кошелки.
– Со-офа, ты плохо кушаешь. – Броня опять поцокала языком и немного потискала Соню, как будто она была не тоненькая столичная красавица, а провинциальная девочка Софа, недостаточно для своих родственников жирненькая.
Броня и сама словно не вполне выросла – в свои семьдесят пять лет она была вылитый пупс, очаровательный пупс с пухлыми морщинистыми щечками и миндалевидными голубыми глазами. Бронин невообразимый акцент со следами идиша, русского и литовского казался совершенно нереальным, и сама Броня казалась нереальной – вроде бы сейчас таких людей уже нет… Но как же нет, когда вот – Броня.
Стоявший рядом с Броней мальчишка-подросток зачарованно смотрел на Соню и, поймав ее взгляд, сам испугался своей смелости и развязно, по школьной привычке, выпалил:
– Какие тут у нас красавицы ходят!..
– Да ладно вам… – кокетливо хихикнула Броня, поправляя платочек.
По дороге домой Броня делилась новостями о родственниках, Головин молча кривился, а Соня кивала в такт и говорила: «Да что ты, как же так, как интересно». Броня требовала называть ее на «ты» – иначе какие же они родственники.
…Соня все время мысленно спотыкалась об одну фразу. Незначащую, мимолетную фразу, услышав которую она от стыда мгновенно закрыла лицо руками.
«…Стоит кому-то пригрозить, что тебя разлюбят, ты тут же готова унижаться и делать все, что тебе велят… »
Есть вещи, прикосновение к которым мучительно. И особенно болезненно прикосновение близкого человека, перед которым чувствуешь себя совсем уж незащищенным, уязвимым… Алексей Юрьевич Головин мыслит четко и логично. Ему нетрудно вытащить из шкафа чужой скелет, разложить его на ковре, рассмотреть повнимательнее. Определить, что там у Сони больнее болело в детстве и каков же получился результат. Вот он, ее скелетик – маленькая плачущая Соня Николаева, недостаточно хорошая девочка, чтобы папа ее не разлюбил. Недостаточно ценная, не девочка, а так, ерунда. А вот и результат – взрослая Соня Головина старается быть хорошей, будто взятку дает, чтобы ее любили, не предали, не исчезли навсегда.
«…Если ты не будешь хорошей, то никому не будешь нужна… »
Соне было обидно, словно ее изнутри волки ели. Она ласково улыбалась Броне, говорила: «Да что ты, как же так, как интересно» и твердила про себя: «Не хочу, не хочу, не хочу»…
– Мусик, а что ты не спрашиваешь, как там Абраша? – обиженно сказала Броня. – Ему уже исполнилось девяносто три года…
– Как там Абраша? – рассеянно отозвался Головин. Броня удовлетворенно кивнула:
– Абраша лежит на смертном ядре.
– И как он там на ядре?
– Ну, умер, конечно, – важно сказала Броня.
Соня фыркнула и тут же сделала серьезное лицо, а Головин почти улыбнулся – все-таки Броня была единственным человеком в мире, который называл его Мусиком.
…Алексей Юрьевич все время мысленно спотыкался об одну фразу, незначащую, мимолетную, невыносимо обидную. «И никогда не хотела, никогда…»
Она никогда его не хотела? Она никогда его не хотела… Эта сказанная в слезах фраза попеременно казалась ему то правдой, то злой истеричной гадостью, и, главное, это ее безответственное утверждение не подлежало никакому анализу, никакой проверке. Он не мог сравнить ее желание с желанием какой-либо другой женщины – ему не с кем было ее сравнивать, и Головин вдруг сильно на Соню рассердился за собственную беспомощность, подумал: «Не хочу».
Так что теперь уже они оба не хотели мириться. Обида не прошла и не уменьшилась, а, как собачка, за время пути даже смогла подрасти.
Броня пробежалась по всем десяти комнатам и в каждой комнате положила какую-нибудь свою вещицу – кофточку, платочек, а в кабинете Головина бросила на стол расческу.
– Это чтобы мне знать, где у меня что, – пояснила она. – Можно мне чаю и телефон? Я очень быстренько.
– Звони, конечно, – обреченно кивнул Головин.
– Вам нужно с родственниками поболтать, я не буду вам мешать, – мстительно сказала Соня в пространство и ушла спать, а Броня принялась звонить, быстренько, но повсюду – в Америку, в Израиль, сообщать всем родственникам по очереди: «А я в Ленинграде». Алексей Юрьевич чинно сидел рядом с Броней, получал приветы от Брониных родственников и впервые за время своей семейной жизни не смог решить, что ему делать. Идти за Соней в спальню означало пусть бессловесное, но все же извинение. Нет. …Он получал и передавал приветы чужим, никогда не виденным и не слышанным людям и повторял про себя: «Черт тебя принес, черт тебя принес!»