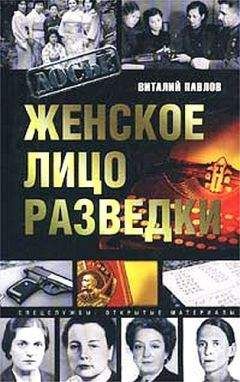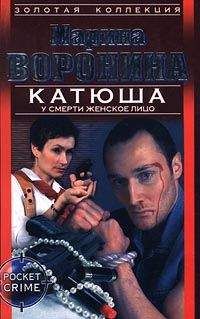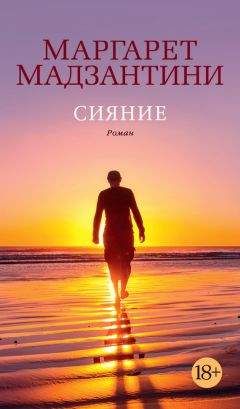Маргарет Мадзантини - Рожденный дважды
— Интересно, как там сейчас, в Сараеве…
Диего облокотился о балюстраду на холме Пинчо. Мы встречаемся в семь вечера, обмениваемся поцелуями и идем, обнявшись, в маленький уютный ресторанчик выпить красного домашнего вина и закусить золотистыми гренками с соусом. Садимся на лавку у окна, которое выходит на улицу — по тротуару идут, куда-то спеша, люди… мы смотрим на них так, будто они из пепла.
Держимся за руки, улыбаемся официанту. Нет никакого желания разговаривать о работе, Диего больше не приносит домой отснятые пленки — у него есть ассистент, который делает всю черновую работу. Теперь, когда у Диего появилось больше свободного времени, он не уходит по утрам с фотоаппаратом на шее фотографировать лужи, он сидит и дремлет на диване. Крышка пианино не открывается месяцами.
Нет, мы не грустим, мы как бревна, плывущие по течению, — покачиваемся себе на волнах, и горя мало. Мы не ходим в гости, всегда подыскиваем повод, чтобы отвертеться. Нам нравится наше одиночество. После того странного отпуска мы еще больше любим друг друга. Но это совсем другая любовь. Я читала в газете, как одна пара бросилась с эстакады. Последним их видел хозяин ларька, где они покупали бутерброды с ветчиной и пиво. Они были спокойны и даже веселы. На небе появились тучи, продавец сказал, что к вечеру будет дождь, а те двое улыбнулись, глядя на небо, на дождь, который их уже не намочит. Так и мы сидели в этом ресторане, обессиленные, растворенные друг в друге, словно нам нечего было терять, не на что надеяться. Словно мы вот сейчас должны пойти и броситься с эстакады.
Возможно, это и есть любовь, достигшая своего пика. Подобное разочарование испытывает альпинист, добравшийся до вершины, когда дальше идти некуда, дальше начинается небо. Итак, мы смотрим через стекло на улицу, на мир, где мы начали свое восхождение, и эта точка отсчета кажется нам очень далекой. Мы достигли вершины, мы стоим на ней в полном одиночестве.
Рука Диего лежит на столе, хрупкое белое запястье.
Он видел толпы беженцев, живые щиты на дорогах, безутешного старика на пороге хлева с убитой скотиной, женщину с одной сережкой в единственном ухе, сорок слепых детей из Вуковара, которые не видят войну, но чувствуют ее своими незрячими глазами. Наверное, ему хотелось быть там, среди этих людей, захватить с собой только фотоаппарат да пару старых кроссовок.
Идем домой, слегка пошатываясь — вино ударило в ноги. Идем, сцепив руки, покачивая ими в такт шагам. Так легче возвращаться — включить свет, увидеть эти комнаты, все наши вещи, которые целый день провели в одиночестве и пропахли тишиной.
Включаем телевизор, ночью новости идут дольше. Когда дети уже спят, показывают изуродованные трупы, показывают людей, которые нажимают спусковой крючок, заряжают орудия, разрушают сделанное другими людьми. Что за опьянение испытывают те, кто в один миг может смести огнем строения, возводимые веками, уничтожить плоды человеческого труда? Это и есть война — превратить все в безликое ничто, уравнять в небытии: развалины общественного туалета и древнего монастыря, мертвый человек рядом с мертвым котом.
Диктор замолкает, камера продолжает фиксировать события. Теперь слышен голос войны. Узнаваемый треск и скрежет, будто тарелки стукаются друг о друга в раковине, наполненной водой. Тишина разорвана то здесь то там, как ткань, искромсанная сумасшедшим портным. Глухой стук шагов бегущего человека. Пулеметная очередь, совсем не страшная, будто бусины раскатились. А потом — жесткий удар артиллерийского орудия. Телекамера дрожит в руках у оператора. Объектив забрызган грязью. Шум голосов, как будто ребята галдят на школьном дворе. Из сгоревшей машины выглядывает голова, маленькая и проворная, как у едва вылупившегося птенца.
Между тем мы заняты своими обычными делами. Я мажу лицо ночным кремом, Диего открывает окно, смотрит на дорогу, на упорядоченное ночное движение — красный и белый свет фар.
Ночью легче дозвониться. Набираем код, номер, ждем, пока сигнал пройдет через пустоту, перепрыгнет из одной страны в другую, преодолев километры расстояния по суше и по воде… но он не проходит, связь прерывается. Кажется, будто это растянутая резинка, которая вдруг рвется и летит назад. Пробуем еще и еще, наконец-то раздаются гудки — линия свободна. Мы представляем, что это кошка бежит вдоль телефонных проводов, которые идут через леса, через тополиные рощи, через поля, желтые от подсолнухов, через реки, берущие свое начало в горах, через горы Зеленгора, Височица, Беляшница и наконец достигают Сараева. Кошка добегает до розового дома, до серого «министерского» телефона, который стоит на буфете, украшенном маленькими зеркальными ромбами, под портретом Тито.
Голос Гойко слышен так хорошо, как будто он разговаривает из телефонной будки, что видна из окна нашей кухни. Он кричит маме, чтобы та убавила звук телевизора. Я стою рядом с Диего, положив голову ему на плечо, как собака. Диего спрашивает, как у них дела, интересуется, в чем они нуждаются. Гойко отвечает, что ему не помешал бы ящичек «Брунелло ди Монтальчино».
— Брось свои шуточки. Что тебе нужно? Я тебе отправлю, привезу…
— Будь спокоен, ничего не надо.
— Как твоя мама? Как Себина? Может, хотя бы ее забрать сюда?
— У нас нет войны.
— А если будет?
Гойко считает, что не будет. Никто не посмеет тронуть Сараево.
Режу пармезан, беру грушу и иду с тарелкой в комнату. Так мы теперь едим — кусочничаем, я кормлю Диего, как ребенка.
В нашем доме слишком много лишних вещей. Хорошо бы все выбросить, оставить только диван, или нет, оставить пианино, а сидеть на полу, прислонившись к стене, как раньше, когда мы были молодые.
Полуголый Диего фотографирует телевизионные кадры. Выхватывает фотоаппаратом эпизоды войны. На экране — больница в Вуковаре, восковые тела, рты, раскрытые в последнем вздохе. Странно наблюдать войну, сидя в прибранной квартире, среди привычных вещей, белых занавесок, милых безделушек — всей этой будничности, смешанной с гневом и раздражением.
Диего берет широкоугольный объектив, садится на пол, снимает наискосок, захватывая края телекадра. Потом он будет печатать голубоватые снимки, длинные, с искривленным, как на широком экране, изображением. Черная рамка телевизора и дымка телевизионного свечения сопровождают эти образы смерти.
— Хватит, иди сюда.
Минуты близости. Диего на мне, легкий как пушинка. У него худая задница бродячей собаки, и сам он весь — кожа да кости. Падает рядом, глухо и отрывисто кашляет. Когда он улыбается, вокруг глаз разбегаются лучики морщин, а лицо по-прежнему мальчишеское.