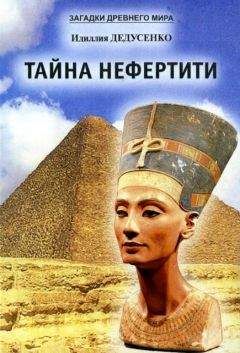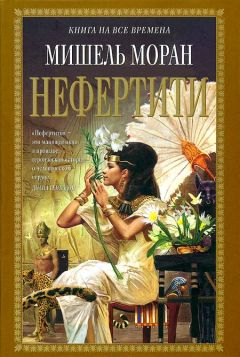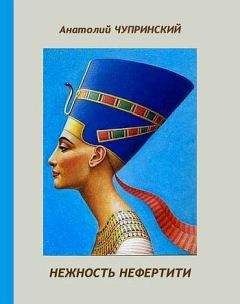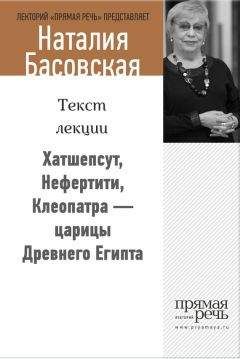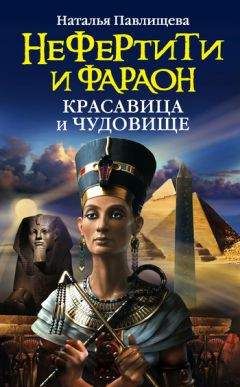Вера Колочкова - Знак Нефертити
— Да… Ты опять прав, пожалуй. Да, именно плетка… Слушай, какой же ты умный, Иван! Ну почему, почему я раньше тебя не встретила? Глядишь, и тоже поумнела бы, и не наворотила бы столько ошибок… Жаль. А теперь уж чего… Теперь уж поздно…
Проклятое вино сделало свое дело, разворошило-таки задремавшее было отчаяние. И слово это проклятое — поздно, поздно! Вошло штопором в пьяную голову, отключило замки-запреты… И потянуло невыносимо! Хоть немного, хоть каплю скопившегося отчаяния наружу выплеснуть! Конечно, не надо бы всего этого… Но уже все, уже не справиться с искушением…
— Ты знаешь, я ведь больна, Иван…
Все, дело сделано. Не смогла-таки в себе удержать, открыла дверь. И заговорила сквозь слезы, сбивчиво, заикаясь:
— Я ведь неделю назад узнала… Неделю в этом ужасе живу, все, не могу больше! Ой, господи, ну зачем, зачем я тебе сейчас… Ты прости, это я от вина… Нет, не надо было, конечно. Но теперь уж все равно… У меня рак, Иван… Все, в понедельник — все… Сдаваться иду… Все, все! Понимаешь — все!
И откинулась на спинку кресла, закрыла глаза, чувствуя, как слезы потоком текут по лицу. Наверное, черные от смытой с ресниц туши. Почему он молчит? Испугался, что ли? Хоть бы слово сказал… Хоть какое-нибудь…
Задержала дыхание, пытаясь взять себя в руки. Села прямо, провела ладонями по щекам, глянула ему в лицо сквозь слезную пелену. Он молчал, смотрел на нее сосредоточенно, нахмурив брови. Будто думал о чем-то своем, не имеющем к ней никакого отношения. Ну да, а чего она хотела… Взяла и огорошила откровением… А что он ей должен был сказать? Не плачь, милая, все обойдется? Нет, пусть уж лучше молчит…
Странно, но она от его молчания успокоилась. Вздохнула глубоко, помахала ладонями перед глазами, даже улыбнулась слегка. И спросила вдруг легкомысленно:
— У меня тушь размазалась, да?
— Нет. Совсем не размазалась.
Голос твердый и, слава богу, без жалости. Поднял руку, сильно потер ладонью небритую щеку. И опять молчит, только смотрит не отрываясь. Наверное, время дает, чтобы окончательно в себя пришла. И то — о чем говорить с пьяной бабой… А может, и не надо ни о чем говорить? Может… Пропади оно все пропадом… Хоть память останется…
Наклонилась вперед корпусом, произнесла тихо, чуть с вызовом:
— Иван, а скажи честно… Я тебе нравлюсь как женщина?
— Да. Нравишься, Ань. Очень нравишься.
— Ну так и в чем же дело? Давай, пользуйся моментом! Бери себе право последней ночи! У меня ведь уже никогда ничего не будет… Ну, что же ты, давай! Устрой последний праздник бедной женщине! Что, слабо? Испугался, да?
— Ань, успокойся. Хочешь, я тебе воды принесу?
— Воды?!
— Ну да, воды. У тебя истерика, Ань.
— Значит… не хочешь?
— Нет. Не хочу. Вот так — не хочу.
Резко сказал, будто оплеуху впечатал. И поднял голову, прислушался… Вскочил с кресла, быстро пошел в спальню, бросив на ходу:
— Извини, я сейчас… У меня телефон в спальне звонит… Это дочь, она как раз в это время звонить должна… Погоди, я сейчас, я не могу ей не ответить! Погоди, Аня!
Боже, какой стыд… Надо бежать отсюда. Тихо, на цыпочках, в прихожую… Пальто, сапоги, сумка! Что ж у двери замок такой неповоротливый… Все, открылась! Тихо, нужно тихо ее за собой захлопнуть…
Она долго бежала, пока были силы. Потом перешла на шаг, с трудом проталкивая в легкие холодный воздух. Все тело исходило нервной судорогой, спина противно взмокла, но голова была ясной, омерзительно ясной. И мысли выталкивались тоже омерзительные, до боли стыдные — сама, сама навязалась! Господи, как стыдно — сама! Ты побирушка, Анька, ты жалкая больная побирушка и больше никто… И правильно он тебе оплеуху дал…
Дернула на себя дверь подъезда, рысью взбежала по лестнице, нажала на кнопку звонка. Открыл Антон. Глянув в ее лицо, пугливо отступил в прихожую.
— Что с тобой, мам?
Из кухни выглянула мама, вытирая руки о фартук, повторила эхом:
— Господи… Что с тобой, Анечка?
— А что со мной? Ничего! Антон, дай пройти, мне умыться надо… И вообще… Оставьте меня на сегодня в покое, ладно?
— Да что случилось-то, мам? — жалобно проговорил Антон ей в спину. — Тут мужик какой-то три раза звонил… Спрашивал — пришла ли ты… Сказал — еще звонить будет… Вот, опять звонок! Это он, мам! Возьмешь трубку?
— Нет! Нет… Скажи ему, пусть номер телефона забудет…
Зашла в ванную, закрыла за собой дверь на защелку. Глянула на себя в зеркало — о, господи… Не лицо, а сплошное унижение. Надо срочно под душ, под горячую воду — смыть, забыть…
— М-а-а-м…
Легкий стук в дверь, приглушенный голос Антона.
— Мам, ответь, пожалуйста… Ну, выйди на минуту… Тебя к телефону…
— Я же тебе сказала, Антон, что нужно этому мужчине ответить!
— Да это не мужчина, это тетя Катя Филимонова!
Вот только Филимоновой не хватало! Что ей надо от нее, да еще в такую минуту?
Вышла из ванной, решительно взяла из рук Антона трубку, прошла в гостиную.
— Чего тебе, Кать?
— Да ничего… А что у тебя с голосом, Ань?
— Все нормально у меня с голосом! Чего звонишь?
— Да просто — поговорить…
— А ты на часы смотрела? Завтра поговорить нельзя?
— Да можно, конечно… Просто, понимаешь, мне эта тема покоя не дает…
— Ну какая, какая тема, Кать?
— Да ты не злись, Анька. Просто по уговору ты у меня завтра последний день выступаешь… Вот я и решила позвонить — может, все-таки передумаешь? А о цене договоримся, я на все твои условия пойду! Ну сама подумай, Ань! И тебе хорошо, и мне хорошо! Далась тебе твоя контора! А у меня — для души…
— Да для какой души, Филимонова! Все, нет у меня никакой души, кончилась! И жизнь моя тоже кончилась! Все, завтра последний день моей нормальной человеческой жизни остался!
— В смысле? Ты чего несешь, Каминская? Совсем рехнулась — такие страшные вещи проговаривать?
— Я не рехнулась, Кать. Я тебе правду говорю — все, кончились мои романсы. Рак у меня, Кать, понимаешь, рак. Скоро титьки отрежут, химией по организму пройдутся, выплюнут в жизнь жалкой каракатицей. Так что извини, Кать… Все, пока…
Нажала на кнопку отбоя, швырнула телефон в кресло. Тело исходило крупной дрожью, зуб на зуб не попадал. Обняла себя руками, согнулась в поясе, застонала глухо… И вдруг — будто опомнилась. Мама, Антон! Они же слышали, наверняка слышали! Оглянулась испуганно — ох… Стоят в дверях гостиной, как два изваяния, с распахнутыми от ужаса глазами.
— Дочка, ты что говоришь…
— Мам… Это ведь все неправда, мам?
Ладонь сама потянулась к лицу, извечным бабьим жестом — рот закрыть, словно еще что-то более горестное должно из него выскочить. А жест мамин, кстати. Она тоже всегда, когда что-то плохое слышит, ладонь ко рту прижимает. Но тут уж прижимай, не прижимай, а отвечать надо. Не развернешься и не уйдешь, не оставишь их в этом ужасном недоумении.