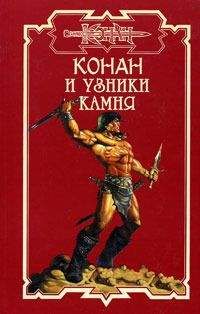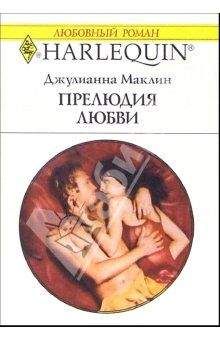Ольга Матвеева - Случайные связи
— Почему? Почему? Почему? — твердит он. — Ты же хочешь меня, я вижу. Почему?
— Потому что я сумасшедшая! — шепчет она по-английски. — Я русская, сумасшедшая баба! — говорит громче. — Дура! Просто редкостная дура! — кричит уже по-русски. — Прощай! — последний взгляд на мужчину. Запомнит ли она его лицо? Наверное, нет. А имя его она так никогда и не узнает. Уже через несколько часов самолет унесет ее за тысячи километров отсюда. — Прощай! Прости! — она разворачивается и бежит по темной улочке прочь от мужчины, которого только что лишила наслаждения. Да и себя тоже. Почему? За что? Зачем? Как глупо все.
Ее оглушает стук собственных каблуков.
Она сидит на балконе в своем номере, слушает море и пьет порто. Так было нужно, успокаивает она себя. Так было нужно! Я не могу больше спать, с кем попало. Я не хочу больше спать, с кем попало! Господи, как же я устала от этих случайных связей! Как они мне надоели! Покоя хочу! Хочу, чтобы в моей жизни был только один мужчина! Постоянный! Любимый! Неслучайный!
Она затягивается сигаретой, смотрит на полную, огромную луну, делает большой глоток порто и вдруг заливается зловещим ведьминским хохотом.
— Я им отомстила! — кричит она в темноту. — Я им всем отомстила! Я ему отомстила! — и перед глазами ее встает вовсе не несчастный каталонский бармен, а бывший муж. Вид у него растерянный и жалкий.
Остаток ночи она рыдала. Когда она садилась в самолет, глаза ее прикрывали темные очки. Так кого она наказала?
Москва. Начало сентября. Где-то в переулках Арбата
— Женщина! — голос откуда-то сбоку. Саша проходит мимо. Ну, не могут же к ней обращаться вот так, вульгарно — «женщина!». «Девушка!» — следует к ней обращаться. Или уже нет?! А вообще странно, почему в этой стране обращение «женщина» считается оскорбительным. Будто быть женщиной оскорбительно. А, может, так оно и есть?
— Женщина! — этот голос сбоку становится раздраженным. — Я к вам обращаюсь, — Саша оборачивается. На противоположенной стороне улочки стоит мужчина с этюдником. — Вы не могли бы мне помочь? — Смотрит именно на нее, а не на кого-то другого. Саша в ярости, но послушно переходит дорогу. Она, как добрая самаритянка, не может не откликнуться на призыв о помощи, хотя уже и слегка ненавидит этого хамоватого мужчину, предположительно художника. — Посторожите, пожалуйста, мое барахлишко, мне по нужде отлучиться надо.
— А вдруг я украду ваше барахлишко? С чего это вам вздумалось, что мне можно доверять?
— Да вам тупо мараться не захочется.
— В каком смысле?
— Да, во всех! Краска, она, знаете ли, пачкается, а одежонка-то у вас того, — изучающий взгляд на Сашу, — немалых денег стоит. Ну, ладно, побежал я, а то совсем уже приперло, — он унесся в сторону ближайшего кафе.
Саша осталась рядом с этюдником. Вот странно, рядом полно вполне себе симпатичных особнячков и доходных домов позапрошлого столетия, а этот идиот малюет какую-то унылую, безликую советскую постройку, которая только уродует тихий переулок. Впрочем, на его полотне уродливая кубическая глыба, презрев все законы перспективы, сильно расширяется кверху и будто взрывает тревожно-фиолетовое небо. Однообразные темные окна создают какой-то пугающий своей монотонной последовательностью ритм. Крыша ощетинилась антеннами, похожими на могильные кресты. На карнизе сидит рыжая огромная кошка, будто готовая спрыгнуть вниз от накрывшей ее вселенской тоски. Только вот не уверена она, удастся ли ей погибнуть. Ибо не факт, что она, во-первых, разобьется, упав с такой высоты, кошка все-таки, а во вторых, при любых раскладах у нее в запасе все равно есть еще несколько жизней. Кошка явно не знает, что делать с этой жизнью, и как ее прекратить она тоже не знает.
А он, похоже, талантлив, этот наглый тип. Вот он возвращается. На лице печать абсолютного счастья. Саша улыбается. А ведь, и вправду, иногда это подлинное счастье просто сбегать в туалет, когда совсем уж приперло.
— Спасибо, — говорит он, — можете быть свободны.
— Не очень-то вы любезны! — отвечает Саша и вдруг понимает, что не хочет уходить: а он весьма привлекателен, этот художник. Высокий, стройный. У него тонкие черты лица, темные, почти черные глаза. Пусть он неряшливый, немного заляпанный краской, и волосы у него длинные и несколько грязноватые. Это его не портит. Скорее, довершает богемный образ. — Слушайте, а почему вы это уродство пишете? Вон рядом вполне симпатичный особнячок. Почему не его?
— Да этот домишко любой бездарь наваять сможет, а чтобы вот это совковое чудовище талантливо изобразить, это гением надо быть! Это творческая задача! А пряничные ампирные домики, это тьфу — почти два века прошло и это сделало их прекрасными. Может быть, современники смотрели на него и ужасались его пошлости. А сейчас мы тут стоим и умиляемся: какой чудесный домик!
— Вы что же, полагаете, что он, — Саша показала рукой на серую коробку жилого дома, рожденную годах в шестидесятых двадцатого века, — через каких-нибудь сто лет тоже будет считаться красивым?
— Вполне вероятно, но я лично надеюсь, что данное сооружение так долго не проживет. Все-таки кому-нибудь должно будет придти в голову его снести, чтобы не позорило оно нашу эпоху.
— А существует, по-вашему, какое-то современное здание в Москве, за которое нам не будет стыдно перед потомками?
— Ну, это крепко подумать надо, — он почесал лоб. На нем остался мазок синей краски. — Что-то ничего даже на ум не приходит. А вообще, чего вы мне голову морочите, дамочка? Идите уже, мне работать надо!
— Вот и делай людям добро! — возмутилась Саша.
— Я вас поблагодарил, что вам еще надо?
— Ничего. Всего доброго! — Саша задрала уже голову, чтобы гордо удалиться, но передумала. — А вы картины свои продаете?
— Продаю, только не покупает никто, — он хохотнул. — Ни черта нынешняя малообразованная буржуазия не смыслит в подлинном искусстве. Хотите приобрести?
— Хочу посмотреть для начала.
Он на секунду задумался.
— А стоит ли на вас время тратить? Придете, проторчите у меня полчаса, а потом все равно ничего не купите. Мне оно надо?!
— Так вы ничего и не продадите, если ничего никому показывать не будете.
— Ладно, уж, валяйте, приходите. Телефон запишите. Только чур до того как стемнеет не звонить — я работаю, — он продиктовал номер, Саша записала. — Ну а теперь все, не отвлекайте меня, — художник обмакнул кисть в разбавитель… и полностью утратил интерес к Саше. Будто она перестала существовать. Так и брела она по улицам, залитым звонким сентябрьским солнцем, как человек-невидимка и глупо улыбалась, будто ее и в самом деле никто не видит. А чему улыбалась? Да она и сама не знала. Просто влюбилась. Только сейчас она и поняла, о чем говорил писатель на острове Крит. Жить лишь мгновением — это прекрасно! Неспешная воскресная Москва, хрупкое, ненадежное тепло, нарядные прохожие и эта внезапная влюбленность, которая к вечеру, вероятно, пройдет. Но это к вечеру, а сейчас… А сейчас… Восхитительное, невыносимое счастье!