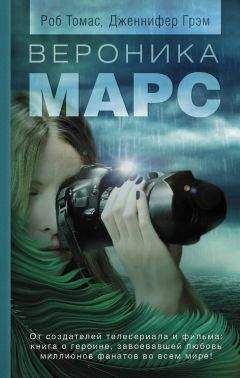Наталия Кочелаева - Невеста без места
Но желанной близости – не физической близости, а душевной – между ними не наступило. Остался холодок, отчужденность. Пожалуй, даже большая, чем была во время их романтически-деловой переписки. Ночь горячих ласк странным образом не растопила лед, а словно спаяла его крепче. Но спешить нам некуда, нам надо еще подумать, как окончательно заместить собой Веронику Солодкову... Пока его можно отпустить.
Торопится вернуться домой. Говорит – дела ждут. Отпустим его. Если там, в сказочной Швейцарии, не ждет его страстная аборигенка, то он не забудет наших ласк и нежных слов. Он на крючке, пусть и надувается сурово, косится по сторонам...
Жениха Анжелика проводила до аэропорта, трогательно помахала платочком. Почему-то долго не уезжала восвояси, пила очень плохой кофе в ресторане, проникалась сладкой тревогой этого странного места, дышала влажным утренним воздухом. На горе располагался аэропорт, и город весь был как на ладони с бетонного парапета, и, пока Анжелика смотрела вниз, стряхивала пепел с тонкой сигаретки, ей пришла на ум замечательная, ослепительная, блестящая комбинация...
ГЛАВА 24
Заметим, Вера помогала сопернице, чем могла. Она словно нарочно опускалась все ниже и ниже, она перестала быть похожей на ту красивую, неуверенную в себе барышню, какой Анжелика впервые увидела ее. За короткое время – от летних знойных дней до декабрьских студеных судорог – она превратилась в... В ничтожество, вот! О ней нечего было сказать, с ней невозможно было дружить, на нее посмотреть было нельзя без ужаса! А Вера еще недоумевала, еще звонила своей подружке Саше Геллер, приглашала в гости, делилась убогими своими новостями, пигмейскими размышлениями! Неужели она ничего не понимает?
И от Ярослава Алексеевича, папаши разгульного, тоже вышла Анжелике большая польза. Тот на время приостановил свое пьянство и разгул, стыдился взрослой дочери. Трезвость пошла ему на пользу и на многое открыла глаза. Предвыборная кампания гикнула, свистнула и провалилась. Депутатское кресло и депутатский мандат Лапутину не достались. Мало того, выяснилось, что дела его детища, строительной компании «Обол», крайне запутанны, сам хозяин в долгах как в шелках, а недовольство обманутых горожан растет, а Фатеев отказал в милостях своему Реставратору.
– Они меня везде найдут, – потерянно шептал бывший начальник стройконторы. – Найдут и... – Дальше он фантазировать боялся и потерянно смотрел на Анжелику.
– Тебе нужно уехать на время. Спрятаться. Скрыться. Подписки о невыезде с тебя никто пока не брал.
– Куда ехать? Говорю же, везде найдут!
– Да, если ехать в Ниццу или в Лондон. Там найдут. А вот в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...
– Мы и так в самой глуши живем. Дальше только Сибирь. Хотя есть у меня имение... Леса мордовские, глухие, дом в самой чащобе стоит, ни пути к нему, ни дороги. И никто не знает про него...
* * *Дом в глухих мордовских лесах купил Ярослав Алексеевич три года назад. Имел Лапутин особый вкус и интерес к охоте, и вот зимой как-то собрался побродить по чащобе с ружьем и приятелем-лесником. Да еще один дружок увязался. Еще с комсомольских времен знакомы были, вместе на собраниях митинговали. Тоже был рубаха-парень, гулена Витька Трубников. За лишнее жизнелюбие и отправили его в глухомань курировать местную газетенку в один лист. Он сначала поубивался, а потом привык, женился, обзавелся домом и стал страстным охотником. К нему в гости, в захудалый городишко Верхонск, и ездил Ярослав Алексеевич почти каждую зиму. Били зайцев, и кабаны, бывало, попадались. Вечерами пили вместе сладкий изюмный самогон, закусывали добытой дичью. Жена Трубникова, простая баба Лушка – то ли мордовка, то ли чувашка – ходила неслышными шагами, говорила шепотом, готовила так, язык проглотишь! Тогда, три года назад, зима выдалась бесснежная, охота – удачная. Побелевшие не ко времени зайцы сами охотникам под ноги кидались. Забрели далеко в глушь, куда по зиме никогда не пробраться без лыж, да и на лыжах раньше не доходили.
– Оп-па! Сергеич, а эт что такое? – присвистнул Трубников.
Сергеич посмотрел из-под руки, точно не в лесу глухом они стояли, а в чистом поле.
– Эк забрели мы... Давно я тут не был. Глухое место. Марьяшкина пустошь.
– Никогда не слыхал, – пожал плечами Трубников.
– Да ну? Помнишь, в позапрошлом году сыночку мэра нашего мертвым нашли? Тут.
– Это, значит, Филипп Иваныча вотчина?
– Да как тебе сказать... Он, как сына схоронил, наотрез от дома отказался. И видеть, грит, не хочу, и не поминайте при мне. Так, поди, и стоит – заброшенный...
– Мужики, а о чем речь? Что за дом? – встрял Ярослав Алексеевич.
Вместо ответа, Сергеич махнул рукой в прогал между вековечными стволами, и у Лапутина словно глаза промылись. Только что не было ничего, не мелькали краснокирпичные стены в просветы, и вдруг – вот он стоит на поляне. В один этаж, с мансардой и верандочкой, аккуратный, веселый домик.
– Залюбовался, Ярослав Алексеич? Да-а, дом – не дом, а конфетка с мармеладом! Только нехорошее это место, Марьяшкины хоромы, и много людей тут головы сложили...
– Ишь ты. Вроде легенды тут у вас, значит?
– Вроде того. Пошли, стемнеет скоро.
– Ну вечером-то расскажешь?
– Хошь – расскажу...
Но прежде чем приступить к рассказу, распаренный от печного тепла, от самогоночки и сытного ужина, Сергеич долго мялся и отнекивался.
– Дело темное... Все говорят – кто с этим домом свяжется, тому беды не миновать. О мэрском сынке речи не идет, он героином напихан был по самые уши... Дом тут спокон веков стоит, и отец мой про него говорил, и дед. Горел сколько раз, а все кто-то находился, отстраивал на старом фундаменте заново и жил в нем, до беды. Фундамент у него крепкай, на крови, говорят, строили.
– Это как храм Спаса на Крови?
– Ну, про Спаса я не знаю. Мало тут спасительного. Дед говорил, при нем еще старые люди рассказывали, что палаты каменные сам Стенька Разин для своей любовницы построил. Была она цыганка, красавица, звали ее Марьяна. И была она, как все цыганки, ведьма...
ГЛАВА 25
Цыганка была некрасива. Она была как языки пламени, пляшущие в ночи. Очень худая, очень смуглая и ростом не больше воробья. Остро выпирающие груди, острые подвздошные и бедренные кости, выступающий живот делали ее похожей на подростка. Но она не была подростком. В полуприкрытых коричневыми веками, непроглядно-черных глазах жило незапамятное знание, непроглядная тьма прошлого, и полыхали в них красные всполохи древних войн, пожаров, кровопролитий... Некрасива была Марьяна, не чета всем тем белым лебедушкам и сизым голубкам что на трудном своем пути приласкивал Стенька... Но страшная сила женская таилась в ней, страшная сила жила в складках красно-сизых губ, в изломах – не изгибах – тела, и пела она гортанными вскриками на чужом языке чужие, ядовитые и сладкие, как мед диких пчел, песни. И зачаровала Марьяна Стеньку, и говорили про нее, что она варила в полнолуние приворотное зелье из кладбищенской земли и опоила им атамана. Так ли, не так ли? Никто не знал. Но не было нужды Марьяне в омерзительном взваре, она и сама, силами своими, могла притянуть к себе кого хотела.