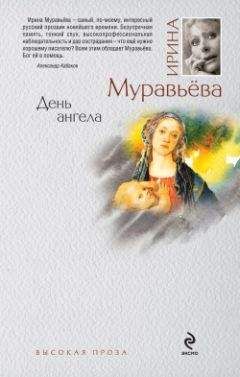Ирина Муравьева - Отражение Беатриче
– А ты понимаешь, что нам теперь делать? – Он не обернулся, и голос его, вдавленный в морозную клинопись, прозвучал глухо, едва слышно. – Нам теперь ни дочери, ни внука не видать как своих ушей.
– Почему? Ведь ты говорил: она сможет вернуться...
– Но не при таких обстоятельствах! – почти вскрикнул он и резко отошел от окна. – Не при таких обстоятельствах, Леля! Если бы его не тронули, и он бы остался на прежней работе, развелся бы с ней, мы бы потихоньку перевезли ее обратно в Москву, сначала она бы сидела с ребенком, потом бы работать пошла. Поскромней нашли бы чего-нибудь там... Да хоть бы тапером в балет! Хоть бы в школу! А так? Что мы можем? Одно остается: лежать всем на дне... И я других выходов просто не вижу.
Выйдя от Константина Андреевича и Елены Александровны взбалмошная, но похорошевшая Туся домой не пошла, а купила себе эскимо и стала кусать его с жадностью, не обращая внимания на холод. Щеки ее слегка пощипывало от мороза, пальцы закоченели даже в варежке, но мысль, вдруг пришедшая к ней, была такой огненной и неожиданной, что Туся сейчас же вспотела под шубой.
«Поеду в Тамбов! – решила она про себя. – Завтра же возьму на работе три дня в счет отпуска и поеду к Аньке. А ей ведь рожать-то вот-вот! Так я пригожусь и ребенка увижу».
Воображение тут же нарисовало ей торжественную и красочную картину, как Анна с закутанным в кружева младенцем на руках возвращается домой, и Туся, нежданная, поднимается с дивана ей навстречу: красиво одетая, с брошкой и в клипсах. Потом они разворачивают младенца, которого Туся почему-то упорно называла про себя Олегом, раскладывают на диване чудесную шубу, подаренную Сергеем Краснопевцевым, чтоб голый младенец лег сразу на мех. Примета народная: будет богатым.
Роды наступили ночью 11 декабря и длились почти сутки. После первых схваток пульс начал падать, и приходилось все время вводить роженице камфару.
– Кричи, кричи, женщина, – сказала истощенная немолодая акушерка. – Не надо стесняться, тебе легче будет.
Но Анна терпела, и только когда боль становилась невыносимой, закусывала пальцы и так стискивала при этом зубы, что на мизинце выступила кровь. Вечером пришел огромный, уставший и старый доктор, склонился над ней, увидел сиреневую синеву под ее провалившимися глазами, сердито попросил у акушерки стетоскоп, послушал сердце, посчитал пульс и коротко приказал везти Краснопевцеву в операционную.
– Куда вы смотрели? – зарычал он на акушерку, которая еле держалась на ногах от усталости. – А если бы сердце остановилось? Я теперь боюсь ей наркоз вводить, пульс еле прослушивается.
– Доктор, – прошептала Анна, и он наклонился к ее мокрому от пота белому лицу с прилипшими ко лбу волосами. – Ребенок мой выживет?
– Тебя сперва будем спасать, – угрожающе ответил доктор и потрепал ее по щеке. – Сейчас о тебе идет речь.
На скользкой холодной каталке ее перевезли в операционную, где другой доктор, совсем молоденький, немного испуганный и в профиль похожий на птицу, оттянул ей веки холодными длинными пальцами и тоже посчитал пульс. Потом кто-то сделал укол, и она провалилась. Во сне она видела слабые очертания больших и ласковых щенков, которые мягко, небольно, горячими зубами покусывали ее живот, но ей вовсе не было страшно, а только немного щекотно и весело. Наконец ей надоела эта забава, и Анна решила прикрикнуть на них, покинуть их жаркое влажное логово, куда ее кто-то втащил, начала отталкивать ласковые, мохнатые морды, но щенки не слушались, начали налезать на нее со всех сторон, лизать ее голое тело, скулить, подвывать, и ей стало их жалко.
– Te amo, – услышала она вдруг голос Микеля Позолини и вся просияла от счастья.
– Микель! – закричала она, испугавшись, что он не видит ее под всеми этими мохнатыми спинами, лапами и головами. – Я здесь, я с тобой!
– Te amo, te amo, – повторял он, растерянно оглядываясь по сторонам, и вдруг закричал, как младенец.
– Ну, все, – сказал кто-то и мокрой, холодной марлей провел по щекам ее и по глазам. – Пора просыпаться, дочурка-то плачет.
Она сразу вспомнила все: и то, что не могла сама родить, и то, что ей несколько раз вводили камфару, и то, что пришел старый доктор и вдруг отругал акушерку. Теперь эта акушерка, которую он отругал, держала на руках ее ребенка и нежно над ним ворковала.
– Хорошая девка, большая, хорошая! – нараспев говорила она. – Мамашу-то еле спасли, я думала, хилая будет, ан нет! Хорошая девка, большая.
– Пожалуйста, дайте сюда, – пересохшими губами прошептала Анна. – Скорей покажите!
– Сейчас, сейчас, мамочка, – сказала акушерка и, наклонившись, что-то сделала с ребенком. – Сейчас, обожди.
Ребенок опять закричал. Акушерка поднесла его матери: Анна взглянула на маленькое, слегка желтоватое личико с выпуклыми полузакрытыми веками и длинными черными ресницами, из-под которых поблескивали черные, с синевой, глаза. Сердце вдруг неистово заколотилось, словно от того, что ребенок вдруг оказался не внутри, к чему так привыкла душа и все тело, а где-то отдельно от них, оно испугалось, запаниковало. Анна хотела было приподняться, чтобы поцеловать задумчивое нежное личико со слегка как будто обветренными губами, но акушерка с силой опустила ее обратно.
– А шов разойдется – тогда? – сердито спросила акушерка. – Еще нацелуешься. Целая жизнь!
Той сцене, которую рисовало артистическое, но никак себя не реализовавшее воображение Туси, не суждено было воплотиться в жизнь, потому что Константин Андреич категорически запретил Тусе соваться в Тамбов и класть там ребенка на шубу. Вместо этого, получив странную телеграмму от глухой соседки Веры Андревны, – такую странную, что миленькая работница почтового отделения с носом-пуговкой удивленно подняла заблестевшие глазки, прочитав: «купили собачку тчк назвали варварой тчк здоровая тчк очень прекрасная тчк» – Елена Александровна и Константин Андреич ночным поездом выехали в Тамбов.
Анна с девочкой были еще в роддоме, – у Анны сильно отекали ноги и каждый вечер подскакивала температура, – в палату к ней, где лежало еще десять только что родивших женщин, никого не пускали. И первая ее встреча с родителями произошла, в точности повторив те встречи, которые происходили, когда шестилетняя Анна, вернувшаяся с мамой из Тамбова, где ее укусил безжалостный малярийный комар, заболела малярией и долго лежала в Филатовской, куда тоже никого не пускали. И мама с папой часами стояли внизу, во дворе, их заваливало снегом, и они топали на одном месте ногами, но не уходили в ожидании той минуты, когда их светлоглазая, с распущенными по костлявым плечикам волнистыми волосами девочка подходила к окну и, увидев их, сразу же начинала плакать и смеяться от счастья.