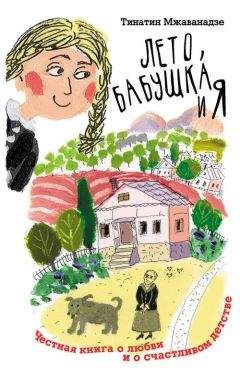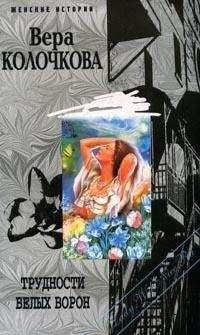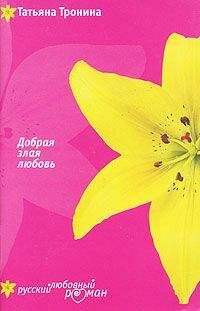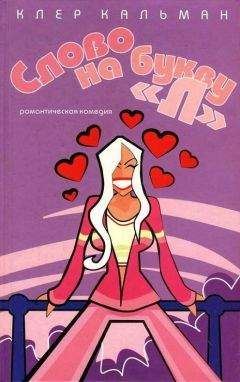Вера Колочкова - Добрая, злая
– Все, все, доча, не буду… И впрямь, чего это я – поперек батьки в пекло… Да и пора уже мне! Мою работу, ребятки, за меня никто не сделает! Спасибо за обед, Кирюшенька, все было очень вкусно!
Торопливо дожевав, она соскочила с дивана, жестом останавливая поднявшегося было вслед за ней Кирюшу:
– Не надо, не провожай меня! Я дверь захлопну! А вы уж тут сами как-нибудь… Этот вопрос решайте… Пока, доча!
– Пока, мам.
Она видела, как трусливо дрогнула Кирюшина спина от хлопка закрывшейся двери. Дрогнула и замерла в напряжении. Интересно, о чем он сейчас думает? Как ей предложение делать или, наоборот, как из этого навязанного положения вывернуться? А впрочем… Кажется, он вообще ни о чем таком не думает. Секунда испуга прошла, и вот он уже весь там, в происходящем на экране действе. А взгляд, взгляд какой! Страстный, алчущий, злобно-завистливый… Сейчас, похоже, еще и комментировать начнет…
– Ну да, этой Колывановой все можно, конечно… – как по заказу, тихо пробормотал он себе под нос. – У нее папаша при бабках, своя квартира в Москве… Тоже мне звезда… Да если б я при таких бабках был…
От его тихого злобного бормотания вдруг зазвенело в ушах, в голове, и показалось, будто звон пошел по всему организму. Странный такой звон, оглохнуть можно. Закрыла глаза, схватилась за голову, сглотнула с трудом… И мысль, тяжелая, раздраженная, вдруг пробила ознобом: как же она этого парня… презирает! Как он ей неприятен с этим своим злобно-алчущим взглядом в телевизор, с глупыми комментариями… Конечно, нехорошо, наверное, таким откровенным презрением к человеку исполняться, и тем не менее! Надо бы ему сказать, чтоб уходил…
Открыла глаза, вздохнула, собралась с духом. Да только не успела. Даже и сама не поняла, что в следующий момент произошло. Комната вдруг заплясала перед глазами, выпучиваясь то столом, то телевизором, как будто испуганное зрение в одночасье стало кривым, фасеточным. Потом все отодвинулось разом, сконцентрировалось отдельным пространством, чуждым, отторгающим, беззвучно кричащим: уходи, уходи, нечего тебе здесь делать! Это не твоя жизнь, чужая ты в ней! И никогда своей не станешь!
Чужая? Действительно, чужая… Никогда ей в эту прежнюю жизнь не войти, как ни выворачивайся с потугами старательной адаптации. Можно, конечно, и обмануть, и вывернуться, но… как тогда жить? Нет, невозможно, да и не хочется, ой как не хочется. А куда – хочется? Ну так ясное дело – куда… Что же она в таком случае здесь сидит? И вообще – чего натворила по трусости, по глупой обманчивой доброте? Какая же здесь доброта ей почудилась? При чем тут вообще доброта?
Тихо встала с дивана, на ватных ногах вышла в прихожую. Обула кроссовки, стянула с вешалки пиджачок, другой рукой прихватила с тумбочки сумку. Тихо открыла дверь, обернулась… В комнате по-прежнему надрывался телевизор голосом «лахудры» Колывановой. Ступила за порог, и дверь закрылась за ней тихим деликатным щелчком.
Уже подъезжая на маршрутке к вокзалу, вспомнила – телефон взять забыла! Ну да ладно, не возвращаться же. Еще бы на вечернюю электричку успеть…
Всю дорогу мысли в голове бродили бесшабашные, радостные. Наверное, и улыбка с лица не сходила – сидящая напротив пожилая парочка все взглядывала на нее в недоумении. А что, смешно, наверное. Сидит дылда долговязая, пялится в заплывающее сумерками вагонное окно, радуется чему-то. Конечно, дорогие мои, радуюсь! Скоро Ивана увижу, брошусь ему на шею, повинюсь в глупом благородстве… Вы думаете, если улыбаюсь, значит, я добрая такая, да? А вот и ошибаетесь! Я не добрая, я злая, я за свое счастье всем страстно адаптирующимся горло перегрызу!
Бежала потом со станции через поле, через мосток, через темный лес – не боялась нисколечки! А чего бояться – ей теперь здесь жить, не пристало родных мест бояться. Вот и Кочкино со взгорка открылось, и в бабы-Симином доме окошки светом горят. И в Ивановом доме – тоже!
Открыла калитку, взлетела на крыльцо, открыла дверь…
– Ну и где тебя черти носят? С собаками искать, что ли? Звоню, звоню, не отвечаешь…
Какие теплые, сильные у него руки. И сердце под рубашкой стучит часто-часто.
– Я телефон дома забыла, Иван. Я в город, домой ездила.
– Что, со станции одна шла?
– Ага…
– Не боялась?
– Нет. Чего мне бояться? Я же к тебе шла!
– А чего уехала, меня не дождавшись?
– Не поверишь – доброй захотела быть! Меня Нелли пыталась убедить, что я должна быть доброй, потому что ты без штанов останешься и обязательно затоскуешь…
– Она что, была здесь?
– Ну да… Сказала, что я должна выпасть из твоих фантазий как неудобоваримый фактор. И тем самым тебя спасти.
– Ну, понятно…
– А ты и правда остался… без штанов?
– А тебе это так важно?
– Мне – нет!
– Ну, и хорошо. В самом деле – зачем одному человеку куча штанов? Да и не такой уж я бесштанный, если судить по потребности. По крайней мере на ферму нам хватит и дом новый поставить хватит. А там… Главное, мы вольными людьми будем, чертенок! А много нам для счастья и воли не надо, правда?
– Правда… Дай мне твой телефон, я маме позвоню, она волнуется, наверное. Ну же, пусти, чего ты меня сграбастал…
Мамин тревожный голос прорвался через первый же длинный гудок:
– Да! Слушаю! Говорите!
– Мам, это я…
– О господи, доча, куда ты делась? Кирилл позвонил, я места себе не нахожу! Давай быстро домой, что еще за фокусы?
– Это не фокусы, мам. В общем… я не приеду. Я здесь останусь. Навсегда. С Иваном.
– Где – здесь?
– В Кочкино.
– О господи… А кто это – Иван?
– Я его люблю, мам.
– Что значит – люблю? И почему – в Кочкино? Что ты с этим Иваном в Кочкино будешь делать?
– Жить, мам. Просто – жить. Я очень хочу – жить…
Мамин голос успел еще всколыхнуться удивленным возмущением, пока она целилась пальцем в кнопку отбоя. Подняла голову, глянула Ивану в глаза. Ох, какие у него были глаза! Да за такие глаза не только жизнь поменять, ее и отдать можно без сожаления.
– Да, будем жить, чертенок… Истину искать не будем, просто жить. Хотя бог его знает – относительно истины… Может, и найдем. Как знать, как знать…