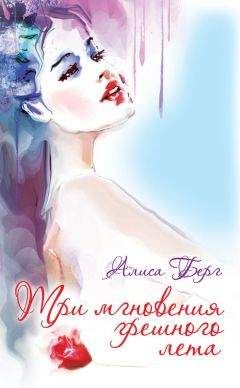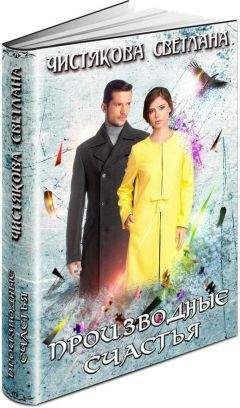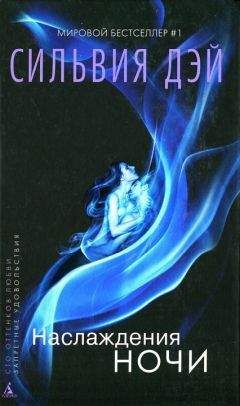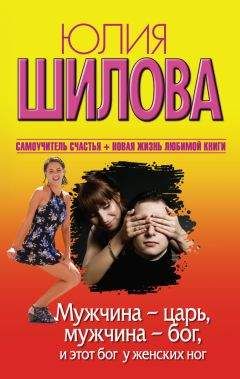Галина Щербакова - Слабых несет ветер
Павла такие речи иногда доводили до исступления.
Пару раз они дрались, как мальчишки, до первой крови.
— Сам-то ты! Сам! — кричал приятель, вытирая юшку из носа, но Павел свирепел: он не такой. Он за оседлость, за достаток, за комфорт. Он изгой — да, но не идейный люмпен. Хорошо жить лучше, чем жить плохо.
— А чего же не живешь?
На этом и мирились. Какой он, к черту, изгой? Изрои — евреи. Но как чисто и достойно проживают отрезки своих оседлых жизней! Русские же на своей земле, а ее — во сколько! — глазом не охватить, а освинячили всю. И он, Павел, ушел к свинарям-люмпенам, протирает матрасы пролетариата, данные ему в вечное пользование. Вспомнил свой матрас, обвязанный веревкой и поставленный на попа. Надо бы сходить в общагу, не выкинули ли его к чертовой матери. А там эта девушка, что горела в его руках. Как же ее зовут? Он теперь с пьяни стал забывать имена. Все помнил — лица, обстоятельства, цифры. Имена же вылетали как в трубу. Расчет был на то, что можно и не встретиться. Он войдет в общежитие в узкую дверцу, что в торце, она сразу у лестницы, что на второй этаж, а каморка девушки без имени на третьем и совсем с другого боку.
Нет, его не выписали. Матрас так и стоял торчком. Никому Павел не был нужен, ну пришел, ну уйдет. Люди жили без интереса друг к другу. Они уже не строили коммунизм, совсем молодые знали о нем только из анекдотов да еще от озверевших стариков, помнящих значащие для них слова: «плечом к плечу», «все, как один» и «за того парня». Молодые и старые ненавидели друг друга, но коммунизм был тут ни при чем, это была биологическая ненависть молодости и старости, лишенная сыно-отцовской родственности. Общность источала зло инстинктивно, как у тех диких предков, что сбрасывали немощных стариков в пропасть, потому что на всех не хватало еды. Тут еды хватало, но сбросить могли запросто. Павел опять вспоминал детство, и супницу на столе, и подносимые к нему тарелки, и мамину руку, тонкую в широком рукаве капота (именно капота, халат — это другое, это у папы халат, толстый, с кистями на поясе), и как они звякали, полные тарелки, становясь на плоскую мелкую тарелку, на краешек которой уголком ложилась салфетка с мережкой. Но пусть не это. Пусть даже то сидение в другой маленькой кухне с соприкасаемыми коленями, где кофе пили на весу, а на колени выкладывались полотенца — одно на двоих. Это тоже была человеческая общность, в ней были разногласия, споры, но не было биологической ненависти, чтоб другого головой вниз, чтоб наверняка в пропасть.
Как же он оказался вне всего того, что было для него важным, ценным? Ну да, ну да, случилось уличение в зломыслии и предательстве, и тогда откровенная дикость людей и природы показалась истиной. Будь каким хочешь, но яви свое лицо без обмана. Волк, лев, крокодил — они без обмана, без хитростей. Они лучше людей. Это, конечно, была не лучшая его мысль. Она не исчерпывала вопроса.
Возвращаясь из общежития, Павел увидел на другой стороне девушку, имя которой забыл. Она смотрела на него и улыбалась, и тогда он, натянув на лоб кепку, пошел совсем в другую сторону, подло припадая на ногу, будто хромой. Свернул в какой-то магазинный двор с ящиками, вонью, притоптанными коробками и почувствовал, как он весь горит от стыда и как он красен лицом, всеми потрохами. Он купил бутылку водки и вернулся к приятелю.
Тот сидел посреди комнаты с раскрытым ртом и изо всей силы сжимал в руке какую-то бумажку. Что-то мыча, он протянул ее Павлу.
«Шура попала аварию. Приезжай забирай».
Он не понял смысла. Он видел только одно слово — авария. Восемь месяцев он каленым железом выжигал в себе это слово-проклятие. И вот оно в его руках. Какая-то Шура…
— Кто такая Шура? — спросил он.
— Сама, — ответил приятель. — Понимаешь, сама…
Нет, он не понимал.
— Жена? — переспросил он.
— Ну? Я же говорю — сама. И знаешь, что тут самое главное? Не авария. А забери. Понимаешь? Помять могут каждого. Делов! Полежит-полежит и пойдет, это тебе всякий скажет. А тут — забери. Понимаешь? Значит, она без ног. Вот!
— Где ты тут такое вычитал? — заорал Павел, одновременно принимая без колебаний версию приятеля. Умно рассудил. Лучше не сообразишь. Степень такого горя отпихнула в нем ту, старую аварию. Смерть сразу выглядела красавицей супротив существования без ног. Он обнял приятеля, тот уткнулся ему в живот седенькой головенкой, выработавшей за долгую жизнь одну, но зато лихую мысль: бедность — это свобода.
— У тебя тут что в кармане? — шептал он в Павлове брюхо. — Случаем, не спасительница?
Павел достал водку.
Они выпили по стакану сразу. И по чуть-чуть остаток.
— Где же я денег возьму на дорогу через три границы?
Павел сказал, что даст, сколько у него есть.
Вечером он проводил несчастного на вокзал. Уже повиснув на поручнях, приятель сказал Павлу как-то сердито:
— Ты не думай. Я деньги верну, даже если там останусь. Может, она не захочет уезжать далеко от своих ног.
Но я ведь ее не брошу. Она мне всю жизнь была верная.
— Не думай про деньги, — прокричал вслед Павел. — Но сообщи решение.
Он вернулся в чужую развалюху. Это было решение вопроса, чтобы не встречаться с Тоней. А! Вот как! Она — Тоня. Павел взял ручку и написал прямо на стене: «Тоня».
Никакой логики. Ушел ведь, чтобы забыть. Зачем же слово на стене?
На следующий же день обнаружилось, что самая страшная на свете несвобода — бедность. Павел отдал другу все те деньги, которые были приготовлены на поездку в Москву на год смерти дочери. Но собрал их начальник партии и сказал, что все свободны, их поиски тут кончаются как бесперспективные, так что гуляй, ребята, кто куда. Им, правда, выдали некие отпускные-отступные, но до лета и того дня еще три месяца плюс дорога плюс поиски места, где он может и где он нужен. Таких денег у него не получалось. Павел съехал из общежития совсем, все-таки жилье у приятеля ему ничего не стоило.
От нечего делать стал ликвидировать порухи дома, которые хозяин считал не то достоянием, не то завоеванием своей жизни. Дверь на одной петле, окно с фанеркой, крыльцо без ступенек, просто кирпичики положены нетрезвой рукой. Так Павел и тюкал то молотком, то топориком целый день, радуясь хоть и маленьким, но трудовым победам. В погребе нашел картошку, квашеную капусту, в сарайке на гвоздочке висели сушеные грибы. Входя в комнату, он видел написанное на стене имя. Но пришла пора побелить комнату, он нашел и горшок с побелкой, и кисть. Забелил имя. Но странное дело, каждый раз, глядя на белую стену, он говорил себе: «Тоня».
И тогда он повесил на это место фотографию хозяев, когда они были молодые, веселые и с ногами. Именно в этот день и пришло письмо. В письме было про то, что Шуру сбил грузовик и сильно сломал ей ногу. Думали даже отрезать, но обошлось. Но своими ногами ей не вернуться, все-таки костыли, так что надо ее забрать, потому как все на работе, крутятся, как собаки, а муж все-таки имеется, и он ей всех ближе. Остальные, как говорится, вода на киселе. Хотя в больницу ходят по очереди раз в неделю, и что есть у самих, то есть и у нее, не звери же. Но надо приехать быстро, может, соберутся и даже дадут телеграмму. «То тогда вы уже можете быть в дороге и, может, где-то уже на границе».