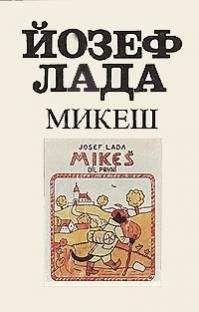Николас Спаркс - Выбор
Не то чтобы все шло идеально. Несколько лет назад они с Габи пережили ряд проблем. Теперь он почти не помнил причин, они затерялись во времени, но даже тогда Тревис ни на мгновение не усомнился в прочности их брака. Габи, судя по всему, тоже. Каждый из них интуитивно понимал, что основа семьи – компромисс и готовность прощать. Два человека дополняют и уравновешивают друг друга. Они с Габи делали это много лет, и Тревис надеялся, что они снова справятся. Но сейчас у них ничего не получалось, и, думая об этом, он тщетно гадал, можно ли сделать хоть что-нибудь – что угодно, – лишь бы восстановить хрупкое равновесие.
Тревис понял, что больше тянуть невозможно, и встал. С цветами в руках он двинулся по коридору. Он видел, как медсестры взглянули на него. Тревис догадывался, о чем они думают, но, разумеется, не стал спрашивать. Он собрался с силами. Ноги, однако, у него дрожали, голова начала болеть – тупо пульсировал затылок. Тревис чувствовал, что если он закроет глаза, то уснет надолго. Он буквально разваливался на части – абсолютно нелепое ощущение. Ему сорок три, а не семьдесят три, он мало ел и по-прежнему заставлял себя ходить в тренажерный зал. «Тебе нужно продолжать занятия спортом, – настаивал отец, – хотя бы ради сохранения здравого ума». Тревис похудел на восемнадцать фунтов за последние два месяца, одежда на нем висела мешком.
Он открыл дверь, заставив себя улыбнуться Габи:
– Привет, милая.
Он надеялся, что она шевельнется или каким-то образом даст понять, что слышит его. Но ничего не произошло; воцарилось долгое молчание, и Тревис ощутил в сердце почти физическую боль. Знакомую боль. Он шагнул через порог, продолжая смотреть на Габи, будто пытался запечатлеть в памяти каждую мелочь. Тревис знал, что это напрасная трата времени. Ее лицо было известно ему лучше, чем собственное.
Подойдя к окну, он поднял жалюзи и впустил в комнату солнечный свет. Вид был не особенно примечательный: окна выходили на небольшое шоссе, рассекавшее город. Мимо кафе неторопливо проезжали машины; Тревис представил, как водители слушают музыку за рулем, или болтают по телефону, или просто едут на работу, или доставляют заказ, или собираются навестить друзей… Люди погружены в собственные заботы, и все они понятия не имеют, что сейчас происходит в клинике. Некогда Тревис был одним из них. Теперь он ощутил тоску по минувшему.
Он положил цветы на подоконник. И почему он не догадался прихватить вазу? Тревис выбрал зимний букет; сочетание оранжевого с фиолетовым казалось почти траурным. Местный флорист считал себя своего рода художником, и за все те годы, что Тревис прибегал к его услугам, ему ни разу не довелось разочароваться. Он покупал цветы на годовщины и дни рождения, в знак примирения и просто так, в качестве романтического сюрприза. И каждый раз Тревис диктовал флористу, что именно должно быть написано на карточке. Иногда он цитировал стихи, найденные в какой-нибудь книге или сочиненные им самим, а порой сразу переходил к делу и откровенно высказывал то, что было у него на уме. Габи хранила эти карточки. Перетянутая резинкой стопка была своего рода летописью их совместной жизни в крошечных фрагментах.
Он сел на стул рядом с кроватью и взял жену за руку. Кожа была бледная, почти восковая, тело как будто стало меньше. Тревис заметил тоненькие морщинки в уголках глаз. И все же Габи по-прежнему казалась ему такой же красивой, как и при первой встрече. Удивительно, но они вместе уже почти одиннадцать лет. Не такой уж продолжительный отрезок времени – но он заключал в себе больше жизни, чем предыдущие тридцать два года, проведенные без нее. Именно поэтому Тревис сегодня пришел в больницу. Именно поэтому он приходил сюда каждый день. У него не было другого выбора. Не потому, что этого ожидали, – просто он не мог сейчас быть где-то в другом месте. Они часами оставались вместе, а ночи проводили порознь. В общем, здесь у него тоже не было иного выбора – он не мог оставить девочек одних. Судьба как будто принимала все решения без них.
За одним лишь исключением.
После катастрофы прошло восемьдесят четыре дня, и теперь нужно было решать. Он по-прежнему понятия не имел, что делать. В последнее время Тревис искал ответы в Библии, в сочинениях Фомы Аквинского и блаженного Августина. Время от времени он наталкивался на удивительные пассажи, но не более того, а потом закрывал книгу и смотрел в окно, не думая ни о чем, как будто надеялся увидеть некий знак на небе.
Тревис редко ехал из больницы прямо домой. Он отправлялся через мост, бродил босиком по пляжу, слушая, как волны разбиваются о берег. Он знал, что дочери расстроены ничуть не меньше, а после визитов в больницу Тревису всегда требовалось время, чтобы успокоиться. Было бы нечестно навязывать девочкам свое настроение. Дети были для него своего рода прибежищем. Сосредотачиваясь на них, Тревис забывал о себе: их радость по-прежнему была незамутненно чистой. Они еще не утратили способности с головой уходить в игру, и от звуков детского хохота Тревису хотелось одновременно смеяться и плакать. Иногда, наблюдая за ними, он поражался, как сильно обе похожи на мать.
Они всегда расспрашивали о ней, но Тревис не знал, что сказать. Дочери были достаточно разумными, чтобы понять: мама нездорова и должна оставаться в больнице. Обе уже не удивлялись, что каждый раз во время их визитов Габи как будто спит. Но Тревис не мог собраться с силами и открыть им правду. Вместо этого он сидел с дочерьми на кушетке и рассказывал, как радовалась мама, когда была беременна, или вспоминал тот день, когда они всем семейством поливали друг друга из садового шланга. Но чаще всего они листали фотоальбомы, которые старательно составляла Габи. В этом она была несколько старомодна, и фотографии неизменно вызывали улыбки. Тревис рассказывал историю, связанную с каждым снимком. Глядя на сияющее лицо Габи на фотографиях, он чувствовал, как у него перехватывает дыхание. Он в жизни не видел никого прекраснее.
Чтобы избавиться от грусти, которая неизменно охватывала его в такие минуты, Тревис порой отрывал взгляд от альбома и смотрел на большую фотографию в рамке. Снимок был сделан прошлым летом на пляже. Они все четверо, в шортах защитного цвета и белых рубашках, сидели на поросшей травой дюне. Такого рода семейные портреты были распространены в Бофоре, но Тревису эта фотография отчего-то казалась абсолютно уникальной. Не потому, что на ней была его семья. Просто он не сомневался, что даже посторонний, глядя на снимок, преисполнится надежды и оптимизма, потому что люди на фото воплощали собой счастливую семью.
Позже, когда девочки шли спать, Тревис откладывал альбомы. Одно дело рассматривать снимки с дочерьми и рассказывать им истории в попытке приободрить, и совсем другое – листать одному. Тревис в одиночестве сидел на кушетке, придавленный бременем скорби. Иногда звонила Стефани. Они, как обычно, болтали, но в то же время испытывали какую-то неловкость. Тревис знал: сестра хочет, чтобы он перестал себя корить. За беспечными замечаниями и привычным поддразниванием крылось то, что она имела в виду на самом деле: никто не винит Тревиса. Друзья и родные беспокоятся о нем. Чтобы не выслушивать этого, он всегда говорил, что с ним все хорошо, пусть даже это было не так. Тревис знал, что сестра не хочет слышать правду. А он сомневался не только в том, что когда-нибудь станет прежним, но и в том, что вообще хочет жить.