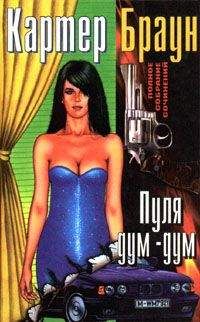Анна Михальская - Foxy. Год лисицы
Ну почему, почему мне выпали такие муки? Такое счастье? Что делать? Тело не просто просило своего, но требовало, а разгоревшийся в печи огонь жаждал новых сухих поленьев. И я была щедра, была расточительна, кормила пламя так, будто заклинала судьбу: дай мне его – на одну ночь, на один день, всего на час… Ведь это так просто. И знала: не даст. Ни на миг не даст. Отняла навсегда.
Измученная, истомившаяся, заплаканная, униженная, я перестала просить. Постепенно желание погасло. Угли долго еще переливались малиновым аксамитом в черном жерле печи. Так наступила ночь.
Утренний свет залил мои закрытые веки – я и не помнила, как уснула, не раздеваясь, на старой, пропахшей псиной кушетке напротив печки. Не успев прийти в себя, еще не открывая глаз, я услышала странный гул. Незнакомый или давно забытый? Мощный, многоголосый, он сотрясал весенний воздух, и даже тонкие стекла старой дачи чуть слышно позванивали в рассохшихся от времени пазах.
Я встала и распахнула дверь. Это были птицы. Сотни, тысячи птиц летели всю ночь, торопились, напрягая последние силы на пороге родного дома – и вот они здесь. Бархатные звучные ноты черных дроздов, скрипки певчих, треск рябинников, флейты зябликов, свист трясогузок – все было едино, неистово, страстно, сильно…
И я улыбнулась. Плеснула натаявшей водой, схваченной поверху тонкой морозной пленкой, в заплаканные глаза – и улыбнулась. Мир был прекрасен.
И я вспомнила: Благовещенье. Сегодня – Благовещенье.
Свет лился с неба так широко. Так щедро.
На опушке Трехдубового леса шуршала шоколадная листва под ногами, торчали сквозь нее прозрачно-серые стебли прошлогодних трав, на тонких бугристых веточках бересклета набухли, вытянувшись зелеными язычками, нежные почки.
Знакомая тропа огибала раскидистую старую черемуху – и на ее черных ветвях что-то ожило, что-то пробудилось. У самого ствола на глинистой земле вокруг лужи я увидела то, за чем пришла. Маленькие отпечатки аккуратных лисьих лап. Один коготок – на внутреннем пальце левой передней – почти не виден. Это Фокси, и след совсем свежий. Рядом – крупные лапы тяжелого зверя. Лис. Очень большой и незнакомый. Неужели тот, алый, которого я видела тогда, из машины?
Продираясь сквозь стелющиеся у самой осоки сплетения бересклета, жимолости, прошлогодней малины, перевитые засохшим вьюнком, я подошла почти к самой норе. Ближе не хотела – зачем тревожить пару. Впрочем, пара ли это?
Похоже, да. Но никаких признаков щенков в норе. Примятая трава, вытоптанная лапами песчаная земля – все это следы ночных игр. Бедная Фокси!
Впрочем, почему «бедная»? Так бывает: вслед за первой течкой, если беременность не наступает, все удовольствие повторяется. А потом… Потом жизнь может повернуть по-разному. Насколько привязан к ней этот новый лис? Все зависит от этого… Бедная Фокси.
Пернатый хор все ликовал. У птиц сегодня свой праздник.
Сумерки еще не наступили, а я была уже в Москве. Мы сидели друг против друга в кафе. «Шоколадницы» были слишком на виду и слишком дороги. В окрестностях Кропоткинской нашлось только одно подходящее, и называлось оно «Оазис». Судьба, как всегда, была вполне иронична.
Итак, мы сидели в «Оазисе», и время таяло за стеклами. Блистательный день угасал.
– Ты знаешь, Лиза, я устал, – сказал он. – Как я устал!
«Ну вот, – подумала я. – Вот оно». Мне показалось, что я проглотила кусок льда и он так и стоит у меня в горле.
– Что ты побелела вся? Лиза? – Он взял меня за руку. – Я совсем не о том. Не бойся. Я всегда с тобой. Я всегда буду с тобой. Просто я устал. Ну, может человек устать? У нас очень тяжело с Лолой.
У кого это «у нас»? – не поняла я, и только потом догадалась. Ну, как же. «У нас» – это у него с женой.
– Понимаешь, она очень своевольна. Никого не слушает. Вот сейчас собралась в Париж. У нее экзамены на носу, а она не спит ночами. Сидит в Интернете. Слушает музыку. Постоянные эсэмэски. Носится с телефоном по всему дому до рассвета. И – в Париж, в Париж… Завтра, сегодня, сейчас. И – никаких разговоров. Или кричит, или запирается. В общем, тяжело все это. Аликс просила, и я купил новую кошку. Ты знаешь, ведь прежняя упала.
Я не знала, что сказать.
– Да, Лола забыла закрыть окно, и кошка выпала. Не удержалась на подоконнике. Наверное, ловила птицу. Приехала машина, но уже ничего нельзя было сделать. Они говорят, весной это часто. Кошки так и падают. Но нашей не повезло. На асфальт, и очень неудачно. Мгновенная смерть.
«Что ж тут неудачного?» – подумала я, но опять промолчала.
– После у Ло сразу явилась эта идея-фикс. Про Париж. Новая кошка не помогла.
– Ну так отпустите ее, пусть съездит, – сказала я наконец. – Что вы ее держите? – А про себя подумала: «Париж…Никогда, наверное, уже никогда в жизни… Не складывается как-то. И не сложится. А тут – девочка в шестнадцать лет». – А что… Она уже была в Париже?
– Да миллион раз, – ответил он. – Ну, не миллион, конечно, – и посмотрел на меня. – Прости, Лиза. Я как-то не подумал… Видишь, совсем не в себе.
– Ничего, – сказала я. – Но я бы ее отпустила.
– Это потому что ты своего Сашку балуешь.
– Наверное, – сказала я. И мне захотелось плакать.
Какие странные отношения, и как все непохоже. В самом деле, каждая несчастная семья… Его рассказы о дочке рисовали удивительные для меня картины чужого детства: несчастливую девочку, окруженную всем, что только можно пожелать, а главное – одаренную отцовской любовью, нежной и преданной, трогательной и заботливой… Мать готовит обед к восьми, семья в сборе за вечерней трапезой. Ради этого мы и должны сейчас расстаться.
– Ну, пора. – И я попросила счет. В «Оазисе» дело обстояло проще, чем даже в «Шоколадницах», и ритуальное питье зеленого чая с марокканской мятой почти не наносило ущерба бюджетам – ни его семьи, ни моей. Сегодня платила я.
Мы вышли в сиреневый туман, окутавший переулки у реки. Узкие переулки…
Он целовал меня в подворотнях, и серые тени пречистенских кошек разбегались, недоуменно озираясь и прячась за мусорными баками.
Неожиданно сквозь пелену тумана сверкнула первая звезда. Нет, не та – еще не полночная.
Но на семейный обед он опоздал.
Утром я шла на факультет, обогнув здание МГУ не справа, как всегда, мимо Клубной части – веера ступеней в храм знаний, там, где сидели две каменные фигуры с книгами в руках – мужского пола, в широких штанах, и женского – в широкой юбке, – а слева, чтобы хоть издали взглянуть на реку, что навсегда нас разделила, и на мост, что соединял нас иногда и ненадолго.
Из углублений и щелей изваяний у лестницы главного входа, наглухо, как обычно, закрытого, доносились нежные звонкие трельки. Это синички-лазоревки ликовали и суетились у своих гнезд.