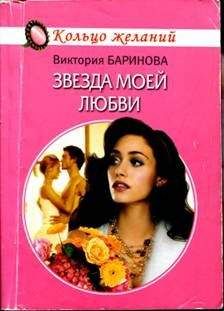Ольга Егорова - Розовая пантера
— Машка…
— Да ладно, это я так — шучу.
— Пообедаешь?
— Мам, ты что, думаешь, я к тебе обедать пришла?
— Так раз пришла, может, пообедаешь… Хоть чаю выпей…
— Не хочу.
— Ну вот, пришла к матери первый раз за четыре года и даже от чая отказываешься…
— Да я не к матери. Не к тебе.
— Не ко мне? — удивилась она.
— Не к тебе, мам. Я к тебе как-нибудь в другой раз, а сегодня я — к нему…
— К нему? Да что случилось-то, Машка?
— Ничего не случилось. Так просто, поговорить решила…
— А это ты насчет… Как его там, Глеб, кажется, — мелькнула догадка.
— Глеб, — подтвердила Маша.
— Так все нормально, я спрашивала у него, еще вчера вечером спрашивала. Все нормально, он же обещал…
— Он где?
— Он там, в кабинете…
Маша поднялась из кресла.
— Маш! — окликнула мать. Она обернулась.
— Да что с тобой? На тебе лица нет…
— Все в порядке… Помнишь, папа говорил: все в порядке, Вера… Помнишь? Здесь его кабинет?
— Здесь…
Маша слегка повернула ручку, вошла, плотно прикрыла за собой дверь, остановилась на пороге. Некоторое время смотрела молча и пристально на человека, сидевшего за столом, покрытым ворохом каких-то бумаг. «Надо же, почти совсем седой стал», — промелькнула мысль. Помолчала еще немного, а потом сказала отчетливо:
— Мне нужно десять тысяч. Сейчас.
…Так бывает, что порой вся прожитая жизнь промелькнет перед глазами за считанные минуты, компактно в них уместившись, лишний раз доказывая полную бессмысленность самого этого понятия — времени. Так бывает, она это знала, знала еще в детстве, по фильмам, — когда в конце человек умирал, он непременно успевал перед смертью просмотреть всю свою жизнь напоследок, как зритель в кинотеатре. Или, вернее, как режиссер, который смотрит свой фильм на экране и думает: вот здесь нужно было бы не так, вот этот эпизод вообще убрать можно, а здесь совсем не тот ракурс. Только изменить уже ничего невозможно — наверное, именно эта мысль и является последней в жизни каждого человека, бездарного режиссера своей собственной судьбы.
Так бывает, она это знала, но только почему теперь, ведь умирать-то она пока не собирается. Собирается, наоборот, жить, жить теперь уж точно без оглядки, приняв чужие правила, нацепив бронированный панцирь, ведь сама же решила, что будет жить. Откуда вдруг эти картинки дурацкие?
…Мама, папа и Маша. С двумя большими бантами, которые топорщатся на голове, как розовые уши игрушечного слона. Любимой игрушки, которую подарил папа на прошлый день рождения. Мама, папа и Маша — все выше, выше. «Вон, смотри, дочка, — наш дом, видишь? А вон — Волга, видишь? А вон твой детский сад…» — «Как здорово, как высоко. Мы на небе, да?» — «Нет, — мама смеется, — мы на колесе обозрения!» Хрустящие шарики попкорна, оранжевый вкус фанты во рту. «Я самая счастливая!» Повисла, как на качелях, схватившись слева — за папину руку, справа — за мамину. «Руки оторвешь, Машка! Чертенок!»
…Папа и Маша. Все темнее за окном, уже не видно птиц, которых можно было рассматривать, и время от этого текло незаметно. «Когда же мама вернется?» — «Иди, мышонок, спать. Мама вернется скоро. Она просто на работе задержалась, у нее очень важные дела. Ты заснешь, а утром проснешься — и мама будет дома». Она заснула, проснулась утром, протопала с полузакрытыми глазами в родительскую спальню — там никого не было. «Проснулся, мой дружок», — услышала из-за спины, обернулась. «А где же мама?» — «Мама скоро придет. Давай-ка в школу собираться». — «А где же мама?» — «Мама скоро придет». — «А почему у тебя такие глаза?» — «Нормальные у меня глаза, что ты в самом деле. Собирайся, а то опоздаем».
…Мама и Маша. Большая чашка остывшего чая на столе, надкусанный пирожок с повидлом — как нежно-малиновая улыбка на сдобном и пухлом лице, только уголки губ почему-то смотрят вниз. «Мама, ты плачешь?» — «Послушай, дочка. Послушай, Машенька. Знаешь, такое бывает, когда взрослые люди больше не могут жить вместе. Не потому, что не хотят, а потому, что просто больше не могут». — «Как это?» — «Есть такое чувство — любовь. Это очень сильное чувство, сильнее всех других чувств на свете, если оно настоящее. Когда люди любят друг друга по-настоящему, они хотят быть вместе. Они не могут не быть вместе…» — «Мама, о чем ты? О чем ты говоришь?» — «Я люблю одного человека, Маша». — «Папу?..» — «Папу… Папу тоже люблю, но не так. Я по-настоящему люблю другого человека. Одного хорошего, очень хорошего человека, понимаешь, мышонок…» — «Я не мышонок! Прекрати называть меня мышонком, я человек!» Большая чашка остывшего чая на полу, коричневая лужица быстро разрастается в озеро, омывая белые в красный горошек островки-осколки.
…Папа и Маша. «Я останусь с тобой. Я не хочу жить с ними. С ней и с этим…» — «Прошу тебя, мышонок. Ей сейчас очень тяжело. Ей будет слишком тяжело без тебя. Ты ведь знаешь, она у нас слабая. А мы с тобой должны быть сильными». — «А ты?» — «Я справлюсь». — «А я? Как же я, папа?» — «И ты тоже. Ты маленький и сильный мышонок…» — «Прекрати! Прекрати называть меня мышонком!..»
…Маша. Одна. Тикают часы на стене. Вокруг — какие-то заморские птицы на шелковых обоях. Она внимательно рассматривает птиц. Не скрипнув, приоткрывается дверь. Глаза — чужие, незнакомая улыбка. «Ну что, Машенька, пойдем в парк? Покатаешься на каруселях, на колесе обозрения…» — «Мне, между прочим, одиннадцать лет. На кой черт мне ваше колесо обозрения, я же не маленькая!» — «Может, тогда в кино сходим все вместе?» — «Не хочу в кино». — «А куда ты хочешь?» — «Никуда не хочу, чего вы ко мне привязались?»
…Мама. В нежно-голубом платье, с блестящей заколкой, из последних сил сдерживающей буйство густых темно-каштановых волос. Со счастливой улыбкой на лице и огромным букетом темно-бордовых роз. Фотография, всего лишь фотография — может, и не было ничего этого? Только розы — вот же они, за спиной, стоят на столе в огромной хрустальной вазе… Только не оборачиваться и не видеть.
…Мама. Выронила из рук телефонную трубку: «Маша, Машенька…» — «Что случилось? Что случилось, ну что ты молчишь, как дура какая?!» — «Маша, Машенька…» Папа — в последний раз. Цветы… Нет, лучше не вспоминать.
…Мама и Маша. «Эх, Машка. Ну сколько можно, когда же ты привыкнешь, ведь три года уже прошло. Ты ведь совсем взрослая стала, должна уже кое-что понимать». — «Отстань, мам». Голос из-за спины: «Ну и о чем вы здесь секретничаете, дорогие мои женщины?» Мама, ласково улыбнувшись: «Сережа…» — «Ты уже сказала?» — «Да перестань, в другой раз». — «Что — в другой раз? Что ты должна была мне сказать? Говори сейчас!» — «Маша…» — «Мама!» — «Да что ты, Вера. Ну что здесь скрывать — она ведь все равно узнает. Еще несколько недель, и не скроешь уже…» Довольная улыбка на лице. «У тебя, Машка, скоро будет братик. Или сестричка». Розовый румянец на щеках — мама счастливая… «Придурки! Не может быть у меня больше никакого братика и никакой сестрички, у меня папа умер почти три года назад. Придурки, придурки вы все!» Слезы, слезы, нескончаемая ночь.