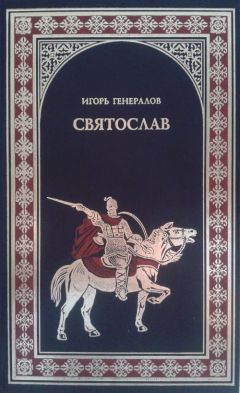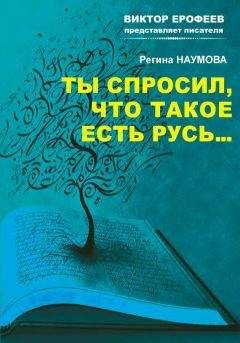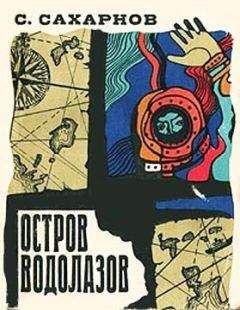Выше стен (СИ) - Ру Тори
Я уже взрослый, переживал и не такое, но теперь облизываю рассеченную губу, часто дышу, а глаза дерет от лютой ненависти и обиды.
Что я, черт возьми, всю жизнь делаю не так? Чем отличаюсь от других, чем хуже? Почему все блага достаются им, а мне в благородном семействе отводится роль лакея?
«Эти ведьмы его чем-то опоили…» — слова матери выныривают из воспоминаний и отравляют и без того вскипевшую кровь. Пожалуй, зря я недооценивал ее проницательность.
Мне до чертиков необходимо услышать мамин голос — естественно, вникать в мое нытье она не станет, но хотя бы укрепит ослабевшую было решимость перевернуть все здесь вверх дном. Кручу в руках видавший виды телефон, нахожу ее номер, без всяких надежд нажимаю на вызов и жду. После десятого гудка случается чудо — она отвечает на звонок, но в трубке раздается лишь шум мотора, громкая музыка и заливистый смех.
Ну, хоть жива… Я вздыхаю и отключаюсь.
Яна права, мой крест — вечно тащить кого-то на себе, я не представляю жизни без самопожертвования. Стоило дурочке показать слабость и уязвимость, и у меня сорвало планку. Я реально увидел в ней родственную душу, а в этой душе — космос. Впрягался за нее в шараге, расклеился и чуть не забыл, зачем вообще сюда пришел… Совсем как папаша, когда перед ним раздвинули ноги.
О чем я думал? О том, как буду до конца дней своих держать ее за руку и завязывать развязавшиеся шнурки? Да неужели, блин?..
Что там она затирала про одиночество и нелюбовь? Несчастной и одинокой, в отличие от меня, наша всеми обожаемая Регина никогда не была.
Скула пульсирует, во рту возникает привкус железа.
Мне и раньше прилетало по роже, но не от него. И каждый из тех, кто попутал берега, потом сильно пожалел…
Ненавижу. Ненавижу его до слабости в кончиках пальцев. До нехватки воздуха в легких. До слез. До беззвучного вопля.
Не знаю, куда себя деть — нарезаю круги по комнате и бесцельно пялюсь в окно. За ним мутно и тускло. Недозима, мир напрочь лишился тепла и красок. Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу и сообщаю отражению:
— Тебя поимели, поздравляю!
Итак, кто я там? Моральный урод, подонок, сволочь, идиот, спиногрыз, копия матери… Вроде ничего не забыл.
Папаша с ходу обвинил меня еще в одном уродском поступке, а я не стал его разочаровывать — пусть и дальше думает, что породил монстра. Пусть и дальше боится как огня и не суется ко мне. «Отец года» хренов…
Раз уж он не сомневается в непогрешимости дурочки, а меня считает настолько гнилым, придется соответствовать. Да я уже и сам почти верю, что специально окрутил ее и развел на деньги. Мне, черт возьми, даже нравится эта версия.
Итак, сегодня день рождения дорогого папочки. Чем не повод повеселиться. Чем не повод смачно харкнуть ему в лицо?..
Из-за крон облетевших тополей наплывают белые снежные тучи, давят на мозг, насылают зевоту — я не выспался, и мышцы болят, как после качалки. Я не в нужной кондиции, а ведь просто обязан произвести фурор…
— Вперед, сука, давай, соберись! — Хлопаю себя по щекам, заваливаюсь на кровать и накрываюсь одеялом. Отворачиваюсь к стене с ободранными обоями и пытаюсь перестать существовать, но от подушки пахнет цветочным шампунем, и я в сердцах швыряю ее в угол.
***
Последняя сигарета с шипением гибнет под подошвой. Полной грудью вдыхаю морозный воздух и собираю воедино обрывки мыслей.
Итак, я сделал это.
Снова чуть не прилетело по роже, а Регину усадили в такси и спешно эвакуировали с места бедствия.
Я прислушиваюсь к себе и не чувствую ничего…
Только головокружение, холодный пот и слабость.
Зато теперь я — главная звезда вечера.
Поправляю пиджак и, покачиваясь от дурной эйфории, возвращаюсь в зал. На языке горчит яд, руки трясутся. На ходу подхватываю с подноса бокал с шампанским и опрокидываю в рот десятую дозу за вечер.
Лавирую сквозь изрядно поредевшую толпу и осматриваюсь. Все здесь было призвано показать, какую роскошь позволяет себе папаша — почти аристократ, высшее общество, — а теперь салон напоминает разоренный лисой курятник.
…У него не может быть неидеальных детей. Тогда кто же я? Никто. Вывод очевиден.
Гости, оскорбленные в лучших чувствах, остервенело шепчутся по углам, гирлянды потухли, и антикварный фарфор уже не отличить от дешманской столовской посуды. Стоило ли из-за него так скандалить среди ночи?
На меня с интересом поглядывают дамочки, пьяный в стельку мужик протягивает клешню для рукопожатия, в ладонь кто-то подсовывает визитку для интервью.
Прислоняюсь плечом к стене и наблюдаю за метаниями папаши. Зрелище увлекает настолько, что даже многострадальная скула перестает болеть.
Он бегает как ошпаренный, рассыпается в извинениях, провожает гостей к выходу, просит фотографов очистить память в камерах, но те все равно успевают заменить флешки с записью его позора на новые. Значит, новость вот-вот уйдет в народ.
Плевать.
Не надо было меня недооценивать.
Я обворожительно подмигиваю девушкам и отваливаю — кулаки зудят, что-то чешется и ноет в груди. Вот и все. То, ради чего я жил последние годы, свершилось — папаша, его драгоценные жена и дочь получили по заслугам.
Эйфория сходит на нет, сменяясь бескрайней оглушающей пустотой.
Помещение арт-салона тоже пустеет, за моей спиной гаснут последние лампы и повисает звенящая тишина.
Подставляю онемевшее лицо ледяному ветру, засовываю влажную руку в карман брюк и усмехаюсь — в нем нет ни рубля.
Значит, пойду пешком — не привыкать. Хреново только, что на мне эти чертовы туфли, а не берцы, которые никогда не подводили. Да и идти-то мне, в общем, некуда…
— Слава… — сипит кто-то севшим голосом.
Быстро оборачиваюсь и вижу папашу — его физиономия в свете фонаря кажется землисто-серой, и от былого лоска и моложавости не осталось и следа. Я выбил из него спесь — теперь минимум месяц эта история будет муссироваться везде и всюду, а в него будут тыкать пальцами. Вынести сор из избы и показать неприглядную изнанку жизни — это для Андрея Вадимовича настоящая трагедия. Чувак так долго строил идеальную ячейку общества, а что в итоге? Дочка — шлюха, и подонок — сын.
— Чего встал? Поехали. Наташа уже дома, персонал все уберет…
Улыбаюсь самой мудацкой из улыбок, из разбитой губы все еще сочится кровь. Я сегодня чертовски много улыбаюсь, не даю ей зажить и напоминаю сам себе, что достоин еще большей боли.
Ныряю на переднее пассажирское место так и не ставшего моим внедорожника, вальяжно вытягиваю ноги и спокойно смотрю на папашу. Мне нужна его реакция, но он вставляет в замок ключ зажигания и трясет головой.
— И это все… только для того, чтобы обратить на себя мое внимание?
Он бесит меня так, что хочется расколошматить кулаками все стекла его дорогого авто, но я только весело ржу:
— Как думаешь, все дети идут на такое, чтобы родители их наконец заметили?
Двигатель недовольно урчит, по салону растекается долгожданное тепло. Папаша взъерошивает волосы, барабанит по рулю пальцами и вдруг дергается:
— Ну, и что дальше? Что дальше, просвети ты меня, неразумного???
— Дальше? Я же вроде рассказал, что тебя ждет… — Я по-хозяйски лезу в бардачок, нахожу пластинку жвачки, разворачиваю и закидываю в рот. — А за дело своей ненаглядной не переживай, я ей такую рекламу обеспечил, что от клиентов отбоя не будет. Порнушку все любят! Грязно, конечно, зато честно. Без белых одеяний и притворства, что все тут святые и идеальные.
— Я про тебя! — Отец выруливает с парковки и дает по газам. — Ты-то что планируешь дальше делать?
— Уеду. Прямо сейчас соберу шмотки и свалю. Мне пофиг. Выживу в любом дерьме. От тебя мне ничего не надо.
— Будешь снимать угол в коммуналке и работать курьером или официантом? — уточняет он вкрадчиво. — Даже колледж не закончишь?
Я комкаю фантик и бросаю на чисто вылизанный резиновый коврик.
— Не твое дело, отвали. Я тебе даже не сын.