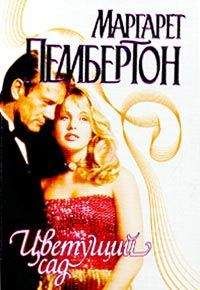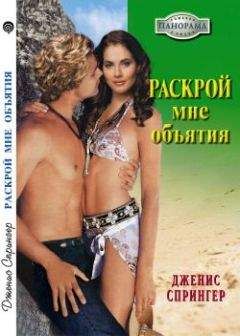Любовь в холодном климате - Митфорд Нэнси
– Знаете, Фанни, не имеет ни малейшего значения, что вы не можете позволить себе дорогую одежду, в этом все равно не было бы смысла. Вы как члены королевской фамилии, голубушка: что бы ни надели, выглядите одинаково, точь-в-точь как они.
Слышать это было не очень приятно, но я знала, что он прав. С моими похожими на вереск волосами и круглым, пышущим здоровьем лицом у меня никогда не получалось выглядеть модно, даже если я старалась так же усердно, как леди Монтдор.
Помню, как моя мать во время одного из своих редких приездов в Англию привезла мне маленький жакет из алой ткани от Скиапарелли. Он показался мне совсем простым и неинтересным, за исключением ярлыка на подкладке, и мне очень хотелось надеть его наизнанку, чтобы люди знали, откуда он. Я надела его дома вместо кардигана, когда вдруг зашел Седрик, и первое, что он сказал, было:
– Ах! Итак, теперь мы одеваемся у Скиапарелли! Понимаю. Что дальше?
– Седрик! Как вы узнали?
– Моя дорогая, всегда можно узнать. Вещи имеют свою визитную карточку, если вы пользуетесь глазами, а мои, похоже, натренированы гораздо больше, чем ваши. Скиапарелли… Ребу… Фаберже… Виолле-ле-Дюк – я могу определить их с первого взгляда. Итак, ваша порочная мать Сумасбродка была здесь с тех пор, как я видел вас в последний раз?
– Я что, сама не могла его купить?
– Нет, нет, любовь моя, вы экономите, чтобы дать образование вашим двенадцати блестящим сыновьям, как же вы можете себе позволить двадцать пять фунтов за маленький жакет?
– Что вы говорите! Двадцать пять фунтов вот за это?
– Полагаю, именно так.
– Просто глупо. Да ведь я могла бы сшить его сама.
– Вы думаете? А если и так, сказал бы я тогда, войдя в комнату, что это Скиапарелли?
– Здесь ярд материи стоимостью в фунт, в лучшем случае, – продолжала я, пораженная подобной пустой тратой денег.
– А сколько ярдов холста в какой-нибудь картине Фрагонара? И сколько стоят деревянные доски или шкура миленькой козочки, прежде чем они превратятся в комоды и сафьян? Искусство – это больше, чем ярды, так же, как Герой – это нечто большее, чем мясо и кости. Кстати, должен предупредить вас, что Соня будет здесь через минуту в поисках крепкого чая. Я осмелился по пути наверх перемолвиться словом с миссис Хизери, любовью чьей жизни я являюсь, и еще принес несколько лепешек из «Кадена» [69], которые оставил у нее.
– Чем сейчас занимается леди Монтдор? – поинтересовалась я, начиная прибираться в комнате.
– Сейчас, в данную минуту? Она у «Паркера», покупает мне подарок ко дню рождения. Это должен быть большой сюрприз, но я пошел к «Паркеру» и подготовил почву, так что буду сильно удивлен, если этим большим сюрпризом не окажется «Хранилище искусств Аккермана».
– А я думала, вы с презрением относитесь к английской мебели, – сказала я.
– Все меньше и меньше. Она провинциальна, но очаровательна – таково теперь мое отношение, а «Хранилище искусств» – очень занятная книга, я видел ее экземпляр на днях, когда мы с Соней ездили к лорду Мерлину, и я жажду ею обладать. Надеюсь, все будет улажено. Соня обожает преподносить мне большие подарки, которые невозможно носить в руках. Она считает, что они укореняют меня в Хэмптоне. Я ее не виню, ее жизнь там, вероятно, была неописуемо скучна без меня.
– Но разве вы там укоренены? – спросила я. – Мне всегда казалось, что ваш настоящий дом – Париж. Не могу представить, что вы останетесь здесь навсегда.
– Я тоже не могу этого представить, но дело в том, моя дорогая, что новости из Парижа не слишком хороши. Я рассказывал вам, не так ли, что оставил своего немецкого друга Клюгга присматривать за моей квартирой и согревать ее для меня? И что же я слышу? На прошлой неделе приехал барон с фургоном и забрал всю мебель, все, до мелочей, оставив бедного Клюгга спать на голых досках. Осмелюсь предположить, он этого и не замечает, он всегда совершенно пьян, когда приходит время ложиться спать, но просыпаться в такой обстановке не очень приятно. Людовик Пятнадцатый… marqueterie [70], бронза, воистину значительные произведения, objets de musée [71]… ну, да я часто говорил вам об этом. Все ушло! Барон в течение одного рокового дня забрал все. Досадно!
– Какой барон? – спросила я.
Я знала все о Клюгге, какая он чудовищная немчура, пьющий, грубый, необразованный, и при этом Седрик никогда не мог объяснить, почему он хотя бы на секунду мирится с его выходками. Но вот барон стал новой для меня фигурой. Седрик, однако, был уклончив. Он лучше чем кто-либо из известных мне людей умел уходить от ответа, если не хотел отвечать.
– Просто еще один знакомый. В мой первый вечер в Париже я пошел в оперу, и я не прочь рассказать вам, моя дорогая, что глаза всех были устремлены на меня, на мою ложу, бедные артисты могли бы с тем же успехом вообще не появляться на сцене. Так вот, один глаз принадлежал барону.
– Вы имеете в виду два глаза? – поправила я.
– Нет, дорогая, один. Он носит повязку на глазу, чтобы придать себе зловещий и завлекательный вид. Никто не знает, как сильно я ненавижу баронов. Всякий раз, как о них думаю, чувствую себя в точности королем Иоанном [72].
– Но, Седрик, я не понимаю. Как он мог забрать вашу мебель?
– Как он мог? Как, в самом деле? Увы, он это сделал, вот все, что я могу сказать. Мой ковер Савонри, мой севрский фарфор, мои сангины [73], все мои сокровища пропали, и я, призна́юсь, от этого чувствую себя подавленным. Потому что хотя они и не могут сравниться по качеству с тем, что я вижу каждый день вокруг себя в Хэмптоне, человек очень сильно привязан к собственным вещам, которые он сам выбирал и покупал. Должен сказать, что Буль в Хэмптоне – лучший из всех, что я когда-либо видел – даже у нас в Шевре нет такого Буля. Просто великолепный. Вы были у нас с тех пор, как мы начали чистить бронзу? О, вы должны прийти. Я научил моего друга Арчи, как отвинчивать детали, отчищать их нашатырным спиртом и поливать из чайника кипятком, чтобы они сразу высыхали и не оставалось никакой влаги, от которой они зеленеют. Он занимается этим целый день, и, когда заканчивает, бронза сверкает, как пещера Аладдина.
Этот Арчи был славным красивым мальчиком, водителем грузовика, которого Седрик нашел с его сломавшимся автомобилем у ворот Хэмптона.
– Только между нами, моя дорогая, когда я его увидел, это был удар грома. Что самое сладостное в любви, так это то время, пока человек еще не выяснил, что представляет собой Герой.
– И также, – съязвила я, – пока Герой не выяснил, что собой представляет тот человек.
Арчи теперь навсегда забросил свой грузовик и переехал жить в Хэмптон, чтобы выполнять там отдельные поручения. Леди Монтдор восприняла его с воодушевлением.
– Как услужливо, – повторяла она, – как умно со стороны Седрика подумать о том, что он может нам пригодиться. Седрик всегда делает такие оригинальные вещи.
– Но я полагаю, – продолжал Седрик, – что вы, наверное, сочтете этот блеск бронзы более отталкивающим, чем когда-либо, Фанни. Я знаю, вам нравится, когда комната сияет чистотой, тогда как я люблю, чтобы она излучала богатство. Вот в чем мы расходимся в настоящее время, но вы изменитесь. Ваш вкус по-настоящему хорош и когда-нибудь он окончательно сформируется.
Это правда, мой вкус в то время, подобно вкусу других молодых особ, которых я знала, серьезно относившихся к своим домам, предпочитал протравленную или расписанную красками мебель с большим количеством белого и обивку в пастельных, радостных тонах. Французская мебель, с ее тонко выточенными декоративными элементами (которые Седрик называл бронзой), ее четкие линии и совершенные пропорции были в те дни далеко за пределами моего разумения, а вышивка в стиле Людовика XIV, которой было много в Хэмптоне, казалась мне темной и удушливой. Я искренне предпочитала веселый мебельный ситец.